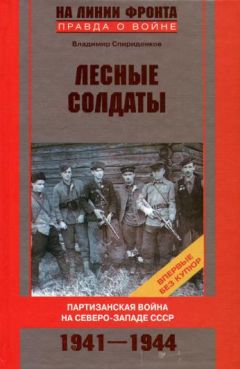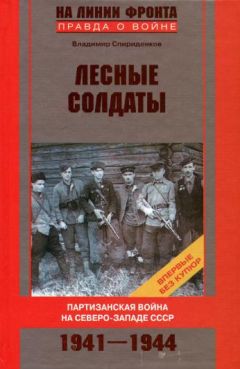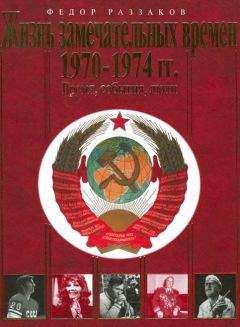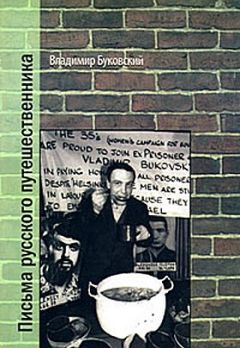Владимир Рыбин - Непобежденные
Человеческое тело, в святость которого они уверовали в осторожное довоенное время, вдруг предстало пред ними в страшной доступности. Операция, на которую прежде требовались годы медицинской практики, теперь не только стала позволительна, но совершенно обязательна. Потому что некому было избавить человека от мук. Некому, кроме них, вчерашних студентов. И нужно было отрешиться от неуверенности, внушить себе, что они — всеумеющие гении хирургии. Иначе как же без уверенности касаться тяжелых ран, как глядеть в ждущие и верящие глаза раненых?
А у черноволосой врачихи — командира операционно-перевязочного взвода Люсиль Григорьевны Цвангер, еще не привыкшей к своему званию капитана медицинской службы, — было и множество других забот, о существовании которых она недавно даже и не подозревала. Требовалось обеспечить стерильность в условиях, когда поддерживать обычную чистоту было неимоверно трудно. Требовалось обеспечивать питание раненых, их эвакуацию. И нужно было подумать о том, где раздобыть солому для подстилки, как организовать гарнизонную службу, что делать с молоденькими, только что призванными санитарками, плачущими, впадающими в панику при бомбежках. И многое другое, чего ни она, ни ее помощники не знали и не умели, надо было предусмотреть, обеспечивать, делать. И делать так, чтобы страждущие, измученные ранами люди не переставали верить в опытность врачей и медсестер, взявшихся им помочь. Потому что на грани жизни и смерти человеку никак нельзя без веры…
— Люсиль Григорьевна, можно я останусь? — жалостливо попросила Нина.
— Нет-нет, иди, — ответила Цвангер. — У тебя руки дрожат.
Она дождалась, когда Нина закрыла за собой дверь, и начала анестезию. Зародов понял, что она делает, сказал:
— Это ж сколько вам работы — латать все дырки без боли. Режьте прямо так, я до боли терпеливый.
— Лежи уж, герой, — устало сказала врач, И вдруг заговорила тихо, назидательно-сердито: — Где это видано, чтобы столько бегать с такими ранами?! Это тебе не игрушки. Самому жизнь не дорога, о других бы подумал, о родине. У родины теперь на таких богатырей вся надежда. Запомни хорошенько и другим расскажи, когда вернешься…
Иван понимал: врачиха заговаривает зубы, чтобы не выл от боли, не дергался. И он сам старался отвлечься, вспоминал то свой крейсер «Красный Кавказ», то мокрое от слез лицо Нины, ее неистовые благодарные поцелуи…
— Кладите его на носилки, — сказала врачиха, когда ловкие руки санитара обмотали его всего белыми бинтами.
Зародов отжался от стола, попытался встать.
— Как это можно носить такого тяжелого. Сам дойду.
Санитар решительно прижал его плечи.
— Доходился. Теперь твое дело — лежать…
Его отнесли в класс, на двери которого было написано — «3-б». Здесь стояла одна единственная парта, за ней, боком, сидел раненый, выставив в сторону толстую, как бревно, загипсованную ногу, писал что-то, по-детски покусывая карандаш. На стене висела густо исписанная классная доска. Посередине крупно выделялось: «Смерть фашистским гадам!»
Пол вдоль стен был устлан слоем соломы и на ней, один возле другого, лежали раненые.
Иван уткнулся носом в солому, задышал жадно. Солома пахла точно так же, как та, Нинина.
Раненые здесь были, как видно, все не тяжелые, отовсюду слышались спокойные голоса, только из угла доносился монотонный стон.
— …Ворвались мы, значит, в эту деревню, гляжу — немцы в мазанку лезут, стреляют из окон, — рассказывал кто-то поблизости. — Ну я, стал быть, на рычаги и в эту мазанку. Долбанул в стену — грохот, пыль, крики. И все, и тихо, встал двигатель. Правда, сразу опять завелся. Но что-то, видать, случилось с ленивцем правой гусеницы, заклинило, видать. Начали было отвинчивать гайки аварийного люка, только слышим стучат сверху: «Рус, сдавайся!»
— Как вы? — услышал Зародов над самым ухом.
Открыл глаза, увидел Нину.
— Что я-то? Заживет, — ответил так же, почти шепотом. — А ты как?
— Мне чего — не раненая.
— Клянешь меня?… Спас, называется… Воспользовался беспамятством…
Она наклонилась совсем близко, горячо дохнула в щеку, поцеловала.
— Сестричка, — послышалось рядом, — и мне бы этого лекарства.
Нина исчезла, а Иван начал подтягиваться на руках, чтобы взглянуть, кто там такой наблюдательный. Острая боль, словно плетью, хлестнула наискосок спины, уложила. И он удивился, что теперь болит больше, чем вчера или сегодня утром. А думал: после докторов сразу легчает.
— Умотали б тебя, как его, тогда и требовал лекарства, — сказал кто-то.
Вокруг засмеялись. Видно, не один тут был наблюдательный.
— Что это тебя, браток, умотали, как мумию египетскую? — спросил тот же голос.
— Да легкий я, — глухо, не поднимая головы, сказал Зародов. — Спину только исхлестало, а как ее перевяжешь, спину-то? Не рука ведь.
— В спину — это плохо…
— Чего хорошего, — перебил другой голос. — У нас одного в задницу ранило, так потом отбрехаться не мог, все говорили: драпал от немцев…
— Нет хуже, когда в спину, — в свою очередь перебил первый голос, настойчивый, спокойный, назидательный. — Спину беречь надо, на ней все держится…
В этот момент грохнуло где-то неподалеку, зазвенели немногие, целые пока стекла. Послышался знакомый неровный гул немецкого бомбардировщика, снова грохнуло — подальше, и все стихло.
— Эй, мумия, давно на войне-то? — спросил все тот же насмешливый голос.
— Все мое, — буркнул Зародов.
— Все да не все. Сколь на фронте-то?
— Не тот счет, братишка, — вмешался непрошеный защитник. — Не числом прожитых дней теперь измеряется жизнь, а числом убитых врагов.
Затихли голоса. Потом кто-то спросил:
— Ну а дальше? Как из танка-то выбрались?
— Выбрались, — охотно отозвался рассказчик. — Немцы пленного привели, красноармейца. В крови весь, а боятся, видать, его, — четыре автоматчика рядом. Мы в триплекс все видели. Офицер что-то сказал ему, а он головой мотает, не соглашается, Тогда офицер по лицу его ударил, и тот парень крикнул: «Ребята, — кричит, — чего стоите?! Дави их, так перетак, не жалей меня, я теперь без пользы!»
Рассказчик умолк, и Зародов все ждал продолжения, забыв о боли.
— Ну и что вы?
— Что мы. Крутанули на второй скорости… И танк пошел. Гусеница, слышу, стучит, но пошел.
Долго молчали, только раненый в углу все стонал надрывно. Потом кто-то сказал тихо, раздумчиво, как о давно всем известном:
— Попомнят Перекоп, гады!
— Да и мы не забудем, — ответили с другой стороны.
— Видно, не удержим немца.
— А ты не каркай.
— Чего уж там. Подкрепления нужны, а где они?
— Будут, если нужны.
— Дай-то бог…
Иван слушал и все больше тревожился. Ну отбили немцев, но ведь они снова полезут. И снова, и снова, и снова. Майор из политотдела приходил, призывал насмерть стоять на этих Ишуньских позициях. Насмерть — немудрено. Но ведь врага остановить могут только живые. Если поляжет все отделение, весь взвод, рота, кто встанет на их место? Немцам довольно и малой щели, чтобы просочиться. И пойдут они гулять по степи. Потому что — Зародов сам видел, когда в медсанбат шел, — нету в тылу крепких позиций, ни больших войск, ни артиллерии, ни танков в засадах. Может, не видел? Одного бойца можно спрятать, но не большие войска. Тем более в такой открытой степи. Значит, без большой подмоги никак не обойтись. А откуда ей взяться, подмоге, когда Крым отрезан?…
Как ни думал Зародов, как ни прикидывал, все выходило, что вся надежда на тайные планы генералов-адмиралов, которым он, еще когда служил на крейсере, беззаветно поверил. Думают же что-нибудь. Держат, небось, про запас такую ловушку, что разом — гоп — и прихлопнут, как мух, всех немцев, что в Крым прорвутся. Не просто врагу войти в Крым, но еще труднее будет выйти. Крым — это ж как бутылка, — только заткнуть горлышко…
Рядовых бойцов не обучают стратегии, но когда становится горячо, каждый поневоле становится стратегом. И каждому кажется, что вот будь он на месте генералов-адмиралов, разом бы разрешил все проблемы и если уж бил врага, то наголову, до полного разгрома. Так неужто всему обученные генералы того не смогут? Эта спасительная вера и в самые тяжкие дни помогает бойцам переносить непереносимое, преодолевать непреодолимое, дает им силу и стойкость. Дает как раз то, на что больше всего и надеются генералы, разрабатывая свои большие планы.
III
Люди не сразу поняли, что произошло. Только что кричали, ругались, звали кого-то, кому-то командовали, приказывали. И вдруг многоголосая толпа красноармейцев, краснофлотцев, комиссаров, заполнившая все палубные пространства на корабле, умолкла, замерла, повинуясь какому-то еще неясному повелению.
— Пошли…
— Пошли!
И так же вдруг все сообразили, что корабль уже не держится за причал, что он уже плывет, и все, что было связано с этим городом радостного и трагичного, накопившегося за два с половиной месяца обороны, неумолимо, безвозвратно отодвигается от них, надолго, может быть, навсегда. Уже нельзя будет сходить на могилы павших друзей, не будет лихих вылазок, отчаянных контратак, а затем долгих, так сближающих фронтовое братство воспоминаний о разных боевых случаях. Ничего не будет!…