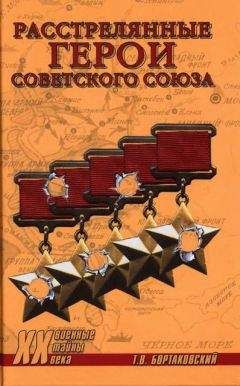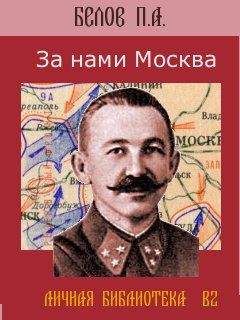Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
И посреди этого цветника я заметил на краю поляны схимника в черной рясе, с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то белыми, смертными узорами. Схимник стоял, засунув руки в рукава, смотрел тусклыми глазами на леток улья, где копошились, ползали, озабоченно сновали пчелы. И его лицо, истонченное до прозрачности, с потусторонними бескровными губами, выражало смиренное и печальное внимание. Он, схимник, вероятно второй раз постриженный в монахи накануне небытия, занятый ежечасным приготовлением к завтрашней смерти, наверное прощался с пчелиной суетой жизни, которая останется на земле, так же как этот благолепный день и колокольный звон обещающий ликование греховного ожидания, устроенное молодыми монахами, каким был когда-то и он, схимник.
Что было на душе его? Тоска прощания с земным? Раскаяние?
В то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, ловил наше внимание – мое и моей жены, – и его красные глаза выражали отрешенность и еще более смиренную покорность судьбе. И показалось, что он, ссутуливаясь, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее глаза, ее белокурые волосы до плеч. Он, конечно, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в неземное царство, о его земной подготовленности. Он также знал о неумолимости срока людей еще молодых, еще полных желаний и сил, и следил за суетой пчел на летке улья, с незаметной усмешкой скорби святого наблюдая неумолимое движение колеса бытия.
Вдова
В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, говор за столами становился все громче, и нетрезвый шум заглушал слова приветствий, и плохо слышно было, что говорили, ибо наступил момент, когда виновник торжества перестал быть центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете.
Надо было уходить, и я незаметно вышел из накуренного зала в коридор. И здесь, на прохладной после зала мраморной лестнице неожиданно увидел сухощавую женскую фигуру всю в траурно-черном, даже черные перчатки натянуты были до локтей. Особенно выделялась широкополая шляпа, какие носили в двадцатых годах, почти закрывшая ее сухонькое лицо со стеклянным взглядом. Не увидев меня, равномерно передвигая по мраморному перилу слабой кистью в креповой перчатке, она спускалась по ступеням, отражаясь в зеркалах подобно грозному знаку среди отзвуков доносившегося сверху веселья.
Я поклонился ей, а она по-прежнему не заметила меня, ее прозрачные глаза ничего не выражали. Наверное, она была пьяна, потому что внизу покачнулась, приостановилась у перил, клоня голову, отчего поля шляпы совсем закрыли лицо, и постояла несколько минут, локтем прижав к боку обшитую бисером сумочку. Это была вдова крупного ученого, бывшего основателя и директора нашего научно-исследовательского института, место которого три года назад занял менее известный ученый, но более удачливый, более решительный, чей пятидесятилетний юбилей институт сегодня торжественно отмечал.
Я не видел ее там, наверху, где шумели речи, пили, смеялись, лобызались с юбиляром, воспитанно-вежливым, седовласым, аристократически-утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж, – и то, что, вся траурно-черная, спотыкаясь на лестнице, она уходила с банкета в свое непоправимое одиночество, чувствовать было невыносимо.
Потом я вообразил, как она войдет в опустевшую квартиру, бессильная, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в котором властвует «навечное отсутствие» его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, шепча немолодыми губами о жестокости жизни.
Малярия
Меня начинало трясти к полудню. Я ощущал сквозь рубаху острый пожар солнца на спине, а тень под голубятней, дышавшая в этот час отдыхом, казалась неимоверно сырой – знобило при одной мысли о влажной земле, по которой ходили голуби, лениво подергивая шейками.
Мне нужно было согреться, я садился на деревянную скамейку на солнцепеке, чувствовал вонзающийся в мою голову, шею, плечи июльский жар. Жар не согревал тело, а давил, замутнял голову, соединяясь с другим, внутренним, жаром. Потом целый мир смещался, изменял обычный цвет, осязаемость – и все представлялось как через стекло: замоскворецкий дворик, могучие липы около забора, низкие красные крыши купеческих домиков, под солнечным потоком.
Приступами подташнивало, и я на шатких ногах брел домой, там мама встречала на пороге испуганным возгласом: «Горе ты мое!»
В эту несусветную жару замерзали руки, синели ногти, я пытался согреть кисти между колен, сжимаясь в комок на кровати, стучал зубами, укрытый с головой двумя одеялами, но меня бил озноб, я дрожал, всхлипывал, стонал, иссушаемый до кипения крови, мнилось, казняще пылающей печью.
Время от времени меня перекидывало на постели удушье, тут же выташнивало, выворачивало в подставленный мамой тазик, и с набрякшей головой я кашлял, давился, выплевывал желчь, пугающую кровавой окраской. После было, горячо во рту, сознание мутилось, кто-то тенью возникал в белой пелене перед кроватью, говорил о температуре сорок, все летнее за окном уходило, уплывало за тридевять земель, и мимо чудесного веснушчатого, как сорочье яйцо, лика девочки проходили в морском заливе яхты под парусами, а я, сильный, небрежный, вел первый швертбот, сидя на корме, держа одной рукой румпель, другой грота-шкот; возле, на банках яхты, продутой насквозь ветром, сидели в садках голуби, и я должен был «подкинуть» их под чужую стаю на глазах знакомой девочки, без которой не мог жить…
Потом возникала погоня во вселенной – в звездной метели среди гудящего мрака нечто зверски оскаленное, имеющее злобную власть надо мной и той девочкой; эта власть неизвестной силы преследовала меня, окружала, швыряла протуберанцами зазубренных копий, они проносились в миллиметре от головы, обжигая волосы, кожу лба, они ослепляли, а два огненных копья торчали в моих ногах, мотались, тянули пудовыми гирями. И, немо крича, я падал с огромной высоты в узкое ущелье, на дне которого бурлила меж камней горная река; вокруг по склонам возвышались каменные стены древних замков с зубчатыми башнями, стрельчатыми бойницами, с подвесными мостами через рвы, и оттуда, из двориков, грозно изготовились рыцарские доспехи, щиты, забрала – там стояли враждебные войска и злорадно, ждали, когда я упаду и разобьюсь вдребезги о гранитные плиты соборной площади или буду нанизан на длинные иглы пик, выставленных железным лесом в небо, откуда падал я в свою смерть.
Я знал, что спасение мое – зацепиться за золотой крест, на купола собора, во что бы то ни стало задержать падение тела, выдернуть копья из пробитых ног, освободиться от боли, жгущей огнем… («Кто же я был? Святой Себастьян?»)
Я схватился руками за металлическую перекладину креста, но зацепиться не смог – и, падая, с треском выворачивая крест, покатился с высоты вниз, скользя пятками по скату крутого купола, в крутящуюся пропасть начавшегося пожара, из лохматого неистовства которого торчали на кольях отрубленные пустоглазые человеческие головы.
Но в этом диком буйстве мучений и крови кто-то любил меня, и я любил кого-то с отрешенностью и безнадежностью. Она же то сидела, независимая, на перилах крыльца, болтая ногами в сандалиях, то стояла у забора под кустом акации и разгрызала стручок, глядя исподлобья неподступными глазами, а я везде искал ее, я хотел, чтобы она пожалела меня, познала мои страдания в борьбе с коварными врагами и потому пришла бы туда, где должна увидеть меня в последний раз, проститься, заплакать от любви…
Я хотел предсмертно лежать спиной на камнях, головой на ее коленях, чувствовать ее залитые слезами губы, видеть ее глаза. О, какое это несказанное наслаждение было умирать на ее коленях и ощущать сокровенное дуновение шепчущего голоса: «Я люблю тебя…» И я тоже плакал от преданности этой девочки нашей любви (которой никогда не было) и в то же время краем воспаленного сознания понимал, что все происходит в бреду, это опять приступ…
Тогда я вскидывался на кровати – чудилось: она, вернувшись с портфельчиком из школы, расширив глаза, смотрела, заглядывала со двора в окно, и возможно слышала мои бредовые слова. На краткую минуту я различал окно, сбоку кровати, с тюлевой занавеской. Нет, никто не заглядывал в комнату («Где она? Где?»), а издали как-то разделенно доносились детские голоса, солнце стрелами пронизывало наискось листву дворовых лип – и не было ни ее колен, ни ее жалости.
И вновь я погружался в расплавленные красные пески Сахары, неохватимого пространства пустыни, лишенного времени, человеческого вчера и завтра. И безмерные пески, уходящие буграми в никуда, гнали меня за неизвестные разуму пределы, жгли пятки, осыпались под ногами, я утопал в их зыбучей трясине, не мог скрыться от своих преследователей. Затем сзади несколько человек хватали за плечи, выкручивали мне руки, грубо втискивали в железную клетку для зверей и везли по пустыни целым караваном верблюдов, на головах которых в такт шагам мотались пушистые кисточки, как у цирковых лошадей.