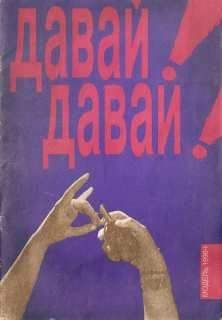Василь Быков - Блиндаж
Где шагом, а где трусцой она преодолела страшный косогор, добежала до картофляника, тут стала спокойнее. Дождик все сыпал — мелкий, но неутихающий; она уже порядком промокла — и куртка, и юбка; босым ногам дождь был не страшен, хуже, что намок платок — второго такого теплого у нее не было.
Еще издали она всмотрелась в свой двор за вишенником — нет, кажется, нынче там не было никого. Соседская хата сгорела дотла: и постройки, и амбар, хлевки, остались только заборы да черная громадная Ахремова печь с закопченной трубой, какие-то рогули в истопке. На огороде, однако, покачивался на ветру крюк старого склоненного журавля над их общим колодцем. Там должно быть и ведро, жбан же Серафимка взяла свой в сенях и по тропке побежала к соседскому пепелищу, на котором еще кое-где слабо дымились уголья даже в дождь, вблизи увидела кучу камней на месте былого овина, да в истопке на прежнем месте стоял забросанный головешками Ахремов жернов, на котором и она когда-то изрядно помолола зерна. Своего жернова у нее не было. Этот же только обгорел немного с уголков деревянного желоба, а так камни были целы и готовы к работе.
Серафимка налила в жбан воды из колодца и вдоль забора снова отправилась в поле.
В этот раз блиндаж нашла быстрее, чем давеча, еще издали увидев приметный взгорочек, и, затаивая в душе страх от предстоящей встречи, влезла в блиндаж. Раненый, как и прежде, лежал на спине, лишь отрывисто бросил, едва услышав ее:
— Тетка?
— Она самая! Вот водицы вам.
Командир вытянул руку с растопыренными пальцами, в которые она вложила шейку своего жбанка, приподнявшись, глотнул воды и снова лег спиной на землю.
— Спасибо.
Она переняла из его рук жбанок и, не зная, куда тут приткнуть его, держала возле себя.
— Может, ты и спасешь меня, тетка? — помолчав, горестно сказал раненый.
— Так абы как-то можно было, — легко отозвалась она, стоя перед ним на коленях. — Вот перекусить вам, хлебца и бульбочки.
Не поднимаясь, он молча протянул к ней руку, и она подала ему краюшку, затем в другую вложила пару холодных позавчерашних картофелин. Командир с готовностью все взял, но тут же изнеможенно опустил на живот занятые едой руки.
— Спасибо вам.
— Так пожалста. Извините, больше нет ничего. Было сало, так Пилипенки забрали.
— Какие Пилипенки?
— А, худые люди. Здешние.
— Худые?
— Ага. Очень дрянные. Просто никчемные.
Командир помолчал, подумал и, все не поднимая рук с едой, спросил:
— А ты кто же будешь?
— Да баба. Колхозница. Серафимой кличут.
— Ну что ж, значит, Серафима? Семья у тебя большая?
— Не-а. Одна я.
— Одна?
— Одна. Одинокая, — грустно призналась Серафимка.
— В Любашах живешь?
— В Любашах, ага. Попалили Любаши, одни головешки остались.
— Да-а, — задумчиво сказал командир и смолк.
Она тоже молчала, не зная, что сказать еще.
— Ты никому только… про меня. Понимаешь? — сказал он, помедлив.
— А то как же. Я — никому.
— Может, я поправлюсь еще. А там… Посмотрим.
— Так поправляйтесь. Я вам буду носить что нужно.
— Спасибо, тетка. Видно, хорошая ты душа, — проникновенно сказал Хлебников, и Серафимка едва удержалась, чтоб не заплакать от похвалы этого бедолаги.
— Доктора б вам. Да где тут…
— Да, доктора… Но, наверно, увы. Может, если бы кого-то из начальства? Из прежнего руководства, может? Связаться чтоб.
— Кабы ж был кто! — сказала она. — А то в Любашах ни бригадира, ни председателя. Председатель так в Судиловичах жил. Партейный. Но остался ли теперь?..
— Да-а… Все рухнуло. Как в прорву… Немцев пока нет?
— Покуда не было. Может, обойдут?
— Нет, не обойдут. Скоро появятся, — выдохнул Хлебников и снова трудно и надолго замолк.
Может, он заснул или забыл о ее присутствии здесь — понятно, человек незрячий, — и она долго сидела тихо, как мышка, стараясь ничем не потревожить его. Хлеб и картофелины он все держал в руках, но ни разу не укусил даже. В блиндаже было, кажется, не холодно и сухо, не то что в траншее, одну сторону которой — видно было на входе — мочило дождем, и мутная вода с кровли тоненькой струей лилась в траншею.
Еще немного поразмыслив, Серафимка вылезла из блиндажа и вдруг оглянулась — почудилось, кто-то мелькнул невдалеке за обрушенным траншейным поворотом. Спохватившись, она постояла немного, послушала, повглядывалась, но никто там не появился, и она подумала, что ей померещилось. Тем более что уже стало темнеть от низких туч на небе, или, может, начинало вечереть; дождь все сыпал и сыпал с неба, везде по траншее сочилась вода, стекала на дно с разбитых, местами обваленных брустверов. Тогда Серафимка подумала, что сегодня она, видать, накормит раненого, но что он будет есть завтра? Об этом следовало подумать, и, пока не смеркалось, она вылезла из траншеи и ходко направилась по косогору в деревню.
4. Обер-ефрейтор Хольц
Обер-ефрейтор Хольц в который раз украдкой подбирался к блиндажу, затаив дыхание, слушал. Он уже знал, что там прячется раненый русский, хотя еще ни разу не видел его. Зато он видел, как сегодня по склону пригорка вниз бежала русская женщина с узелком в руках — вероятно, несла сюда провиант. Действительно, вскоре она исчезла в траншее где-то вблизи того блиндажа, долго не появлялась оттуда, и Хольц, подкравшись по траншее ближе, пытался подслушать их разговор. Но слышно было плохо, к тому же мешал дождь — гулко лопотал по его напяленной на плечи одеревенелой плащ-палатке, хоть сбрось ее в грязь. Может, и стоило бы сбросить, чтобы услышать, о чем там говорили русские, да Хольц не был уверен, что, услышав, что-нибудь поймет — его познание русского языка было весьма скромным.
Как-то под городом Барановичи, где он два дня квартировал у русской хозяйки, он попробовал заговорить с ней, но ничего не понял, кстати, как и она его. Оказывается, как он выяснил позже, этот русский язык имеет еще диалекты, белорусский, например, понять который ему не помог и немецко-русский разговорник, находившийся всегда в кармане его шинели. Он носил его до той памятной ночной бомбежки в Орше, когда Хольц так нелепо потерял сапоги, санитарную сумку и шинель с тем самым разговорником. Правда, сансумку ему вскоре выдали новую, сапоги он добыл у фельдфебеля батальона Зудермана, а вот шинелью с разговорником так и не расстарался аж до этого ужасного боя. Как раз сейчас и то, и другое было бы ему как нельзя кстати. Особенно шинелька.
Все ж пока выручала плащ-палатка — штатная камуфляжная треуголка с металлическими проушинами по краям, без нее он, видимо, пропал бы.
Отойдя на три-четыре траншейных колена, обер-ефрейтор осторожно выглянул из-за бруствера — та женщина была уже далеко, может, на самом верху пригорка, теперь она бежала без какой-либо ноши — значит, узелок оставила у этого раненого русского. Интересно, какого она возраста, эта женщина, может, молодая, подумал Хольц. Раненый, должно быть, тоже молодой офицер или сержант, и у них, возможно, любовь, может, такая, как описывается в русских романах Толстого или Достоевского. Это, конечно, здорово, любовь к раненому солдату, она заботится о нем, лечит, носит еду и хранит верность навек. А когда он умрет, она поступит в монастырь и будет до конца своих дней молить за него Бога. Красивая любовь, жаль, у немцев такое не принято.
Хольц отошел по траншее от блиндажа, смелее посмотрел по-над бруствером — на косогор и на широкое раздолье торфяного болота, местами залитого водой. Местность здесь понижалась, было больше стоячей воды, дно траншеи превратилось в грязное месиво, и он далеко не пошел.
Под вечер становилось холодно, в траншеях гулял какой-то особенный траншейный сквозняк, он давно уже пробирал легко одетого обер-ефрейтора. Опять же, сыпал этот надоедливый дождь. Спрятаться от дождя здесь просто негде. Правда, на том фланге, ближе к дороге, было несколько пехотных нор, в которых можно немного укрыться от дождя. Но возле дороги более опасно, чем в этой болотистой местности, и Хольц старался там не показываться.
Прошлую ночь он промучился под разбитой сожженной машиной недалеко от шоссе, там крепко воняло паленой резиной и железной окалиной, и он больше дрожал под своей плащ-палаткой, чем спал. Где ему переночевать сегодня — он просто не мог придумать и с утра слонялся по траншее. Эти русские все же удивительно непрактичные люди, думал обер-ефрейтор: столько ладили оборону, столько накопали траншей, основных и запасных позиций, а крытых блиндажей обустроили всего два. Один разбило прямым попаданием снаряда, и там теперь будет разить от неприбранных, разорванных в клочья трупов, второй вот занят этим раненым. Хоть выкуривай его оттуда гранатой. Или просись у него на ночлег.
Чтобы очень уж не вытыкаться из мелковатой, по грудь, траншеи, Хольц присел в ее не самом сухом месте, заслонился мокрой плащ-палаткой и стал думать о своей горькой судьбе, которую ему уготовила война или, может, больше чем война — его излишне строптивый, неуравновешенный характер. Хотя он знал, что на войне не очень помогали и железные нервы, трезвые головы и выдержка, война всех побеждала своей толсторылой логикой. Уж насколько имел железную выдержку его друг, классный радист Франк, который под носом у русских корректировал артиллерийский огонь, он имел железный крест и три дня тому погиб от русского снаряда. Второй его друг и земляк Кристоф Шмидт, спокойный гренадерский унтер-офицер, в прошлом студент коммерческого факультета, тоже кончил куда уж хуже: после тяжкого ранения ему ампутировали обе ноги, и теперь он ездит в инвалидной коляске по улицам своего Оберхаузена. Что же касается толстокожего саксонского битюга, их командира батальона гауптмана Линхарда, то его ненавидел весь батальон и особенно он, обер-ефрейтор Хольц. Из-за этой самой своей нелюбви к гауптману он, Хольц, и очутился в своем нынешнем драматичном положении.