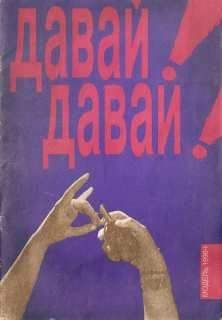Василь Быков - Блиндаж
После недолгого перерыва связь с первым батальоном была все же восстановлена, а телефон связи со вторым упорно молчал с полудня, хотя на линию были посланы с интервалами шестеро связистов, да ни один из них не вернулся. Из полкового КП послать уже было некого, и начальник связи выскочил под огонь сам, убежденный, что вскоре положит и его. Да просто невыносимо стало слушать угрожающую ругань начальника штаба, и в тот момент ему было уже все равно: выжить или погибнуть, только бы восстановить связь.
Правда, поначалу ему даже повезло, он невредимым добрался до первой траншеи, в двух местах срастил перебитый осколками провод, возобновил связь и даже успел доложить об этом начальнику штаба. Немцы жутко лупили снарядами по косогору и по батальону, но здесь, в траншее, было спокойнее, чем в голом поле, и Хлебников решил немного переждать, прежде чем возвращаться. Опять же, он хотел увидеться с комбатом, чтобы спросить, сколько тот еще здесь продержится с батальоном. И только он, пригнувшись, сунулся из блиндажа в траншею, как тяжелый земляной пласт, внезапно вскинутый взрывом, неистово обрушился на него, повалил на спину, и он успел лишь подумать: не попало в поле, так догнало вот в траншее. Потом он уже ничего не помнил, пока его не вытянули из-под земляного завала.
Терпя остро-жгучую боль в голове, Хлебников лежал в блиндаже и ждал, когда хоть кто-нибудь заглянет сюда, хотелось спросить, что там происходит, где комбат? Но время шло, слышно было, уже стихал бой (что только нес он полку — победу или поражение?), а к нему никто не заходил. Тогда в сознание капитана начал заползать страх: не остался ли он тут один, не покинули ли его красноармейцы? Это было бы ужасно, к такому повороту он не был готов, об этом не мог даже подумать. Но, видно, бросили. Спустя какое-то время вокруг совсем стихло, не стало слышно ни одного выстрела или взрыва в поле и над торфяником — похоже, настала ночь. Но где же наши? Где второй батальон, где комбат? Где хотя бы кто из красноармейцев? Один, без помощи, забытый всеми, он здесь пропадет, это же ясно. Вот заявятся немцы, швырнут в блиндаж гранату, которая вмиг разметет его потроха, перебьет руки и ноги. Добро, если он околеет сразу. А если им удастся взять его живым?..
Настрадавшись от неопределенности, он поднял свой пистолет, дослал патрон из магазина в патронник. Осталось достаточно легкое — нажать на спуск, и все навсегда кончится. Должно быть, это все же самое разумное. Ведь иначе что ждет его, слепого и беспомощного, кроме гибели от врагов или от своей раны? Нет, лучше уж он сам. Поднести пистолет к больному, неуклюже-толсто забинтованному виску и жимануть. Некая секунда боли в и без того переполненной болью голове, и дальше — ничего. Полное освобождение от мук и переживаний.
Да, это было бы, возможно, наилучшее, думал капитан Хлебников. И это придется сделать. Только вот решимости на это у него не хватало, все он чего-то ждал, вслушивался, тянул — будто на что-то надеялся. Надеялся разве на чудо. Но шло время, а чуда не было, и он ругал себя, обзывал трусом, слизняком, ненавидел себя за свою нерешительность. И томился, страдал от боли и безысходности.
Бесконечно долго тянулось время, Хлебников боролся с болью и то забывался, то терял сознание, может даже, обессиленный болью, дремал, а то схватывался, слушал. Иногда делалось холодно, или это его знобило, тело било лихорадкой, и он пробовал хотя бы как-нибудь согреться, укрыться шинелью, на которой лежал. То делалось жарко, и он потел, обливаясь горячим потом.
Минул, наверное, не один день, хотя он совсем не мог отличить дня от ночи, стрельба давно прекратилась, и вокруг было тихо и глухо, словно в подземелье. Он и вправду был в подземелье, вдали от дорог, в поле под деревней с таким памятным для него и ласковым названием — Любаши.
Однажды он внезапно проснулся от гула, что глуховатой могучей волною откуда-то плыл в блиндаж, но, послушав, подумал, что это, верно, гудит техника на шоссе за торфяником. Мощеное шоссе было все же довольно далеко от участка второго батальона, он это помнил из карты, которую держал в руках на КП, еще когда они готовили здесь оборону. Жаль, что тогда он не очень интересовался окрестностями, не посмотрел, где еще были деревни. Хотя к чему ему теперь деревни, разве он дойдет до них?..
Неизвестно уж, спал ли он или едва держался на грани потери сознания, но как-то сразу услышал близкие от траншеи шаги и схватился за пистолет. Слушал с колотящимся сердцем в груди, ожидая услышать голоса, чтобы определить — кто? Да не услышал ничего. Тихие шаги человека, который вроде подкрадывается, останавливается, слушает, доносились сзади от блиндажа, на тыльном боку траншеи, и он вдруг всполошился, что упустит эту редкую возможность обозваться. Но как было и обзываться? А если там немец?
И все же он не удержался, с пистолетом в руках выполз в траншею, упираясь в мокрые стены спиной и локтями, кое-как поднялся на ноги и подал голос. Вероятно, тот его голос прозвучал отчаянно и беспомощно, хоть он и старался придать ему силы и решимости, и он готов был стрелять.
Но это была женщина.
Теперь он будто обрел надежду и ухватился за нее. Он только боялся, чтобы женщина не обманула его, не устрашилась слепого; быть может, она бы помогла. Как она могла ему помочь — он не знал; прежде всего, он просил поесть, так как, ослабев, чувствовал, что не протянет долго. Он просто подохнет здесь, в этой норе, прежде чем его найдут свои или немцы или он решится наконец пустить себе пулю в лоб. Это совсем уж было бы скверно, это было бы просто глупо…
Да, но что мог он, незрячий? Разве сам он выбрал себе эту судьбу? Он только стал ее жертвой, нелепой, обидной жертвой, которая пополнит и без того немалочисленный список жертв этой огромной войны.
3. Серафимка
Почувствовав недоброе, Серафимка прибежала на свой порушенный, обросший чернобыльником дворик и сразу увидела раскрытую сенную дверь. Все же дверь она закрывала, когда уходила утром, значит, там побывали. Серафимка бросила наземь лопату и метнулась к кадке, где в порыжелом слое соли она с зимы берегла два куска сала. Но где там! Рядом на земле валялась почерневшая крышка, а в кадке было пусто, одна соль на дне. Значит, взяли, чтоб их взял кровавый понос!
Серафимка вбежала в свою тесную холодную хатку, громыхнула заслонкой. Чугунок стоял на прежнем месте в остывшей печи, картошечку они не взяли. Тогда она привычно выдернула из шкафчика ящик — краюшка тоже уцелела, значит, все ж будет чем покормить человека.
Торопливо начала собираться в поле: завязала в старый платок миску с вывернутой в нее картошкой, поверх которой положила краюху и два соленых огурца из кринки — поесть голодному человеку покамест хватит. А там будет видно. Она очень спешила, будто боясь, что опоздает, не спасет горемыку, поправила платок на голове и выбежала во двор. Пилипенков уже нигде не было видно — может, пошли на свой хутор или еще где-нибудь слоняются на пепелищах. Тут она впервые подумала, что про ее красноармейца никто не должен знать, тем более эти злодеи, от которых всего можно ждать. Еще донесут немцам, тогда кто знает, что будет. И ему, и ей тоже.
Снова начинался мелкий холодноватый дождик с западным ветром, в поле было неуютно, но, не очень замечая это, она торопливо бежала сначала дорогой, потом перекопанным снарядами косогором до торфяника. Воронки в низких местах уже стали наполняться водой на дне; в одной она увидела нечто подобное на одежину, хотя это мог быть человек, который будто бы плавал там, и только его спина высовывалась поверх воды. Испугавшись, она шмыгнула в сторону, выбежала к траншее и долго плутала в траншейных лабиринтах, пока нашла знакомый с чуть поблекшим дерном взгорок. Похоже, это был тот самый блиндаж. Но теперь ее никто не встречал, зиял чернотой низкий вход в него, и она тихо позвала:
— Вы тутака?..
Не сразу в ответ послышался сдержанный стон, который еще больше встревожил ее, и Серафимка, едва одолевая страх, полезла в темень.
— Казали, поесть… Так вот принесла бульбочки…
Человек пластом лежал в углу на разостланной шинели, в полумраке едва белело его обмотанное бинтами лицо.
— Воды мне…
— Воды?..
Серафимка виновато удивилась: про воду она и не подумала, она несла поесть. Но, правда, если больной, раненый, надо ж воды, как же она не сообразила сразу?..
Узелок с миской она оставила в блиндаже, а сама выползла в траншею, размышляя, где бы взять воды? Кроме луж в воронках да на торфянике, другой воды вокруг не было, нужно бежать домой.
Где шагом, а где трусцой она преодолела страшный косогор, добежала до картофляника, тут стала спокойнее. Дождик все сыпал — мелкий, но неутихающий; она уже порядком промокла — и куртка, и юбка; босым ногам дождь был не страшен, хуже, что намок платок — второго такого теплого у нее не было.