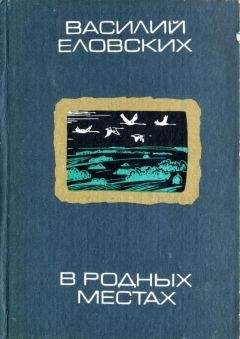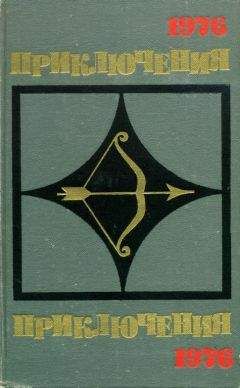Василий Еловских - Вьюжной ночью
В прошлом году, как раз перед пасхой (так уж получилось), когда бабы стряпали куличи и красили яички, в Боктанке заработал радиоузел.
— Это вам на память о дяде Мите.
Но приемник работал только, с неделю, а потом вдруг заглох. Долго рассуждали, как быть, шатали и дергали «у него в нутре» — молчит, окаянная сила. С полдня возился с приемником и Егор Иванович, обкуривая ребятишек едучей махрой и ворча: «Понужать вас некому, еретиков. Таку штуку испортили». Глядел приемник и что-то в нем щупал отец Колькин. И еще один сосед приходил, вальцовщик. Даже сама бабка Лиза глядела «в нутро» аппарата и все чего-то хмыкала. Приемник молчал. Для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, нужны были руки Дмитрия Фоминых.
ПОИСКИ, ПОИСКИ…
Поезд как-то разом, внезапно подскочил к станции, паровоз недовольно попыхтел минуты две-три и потащил вагоны дальше на восток, в лес, в тайгу. И будто не было его.
Санька с Колькой во все глаза глядели на поезд, на пассажиров, — интересно все-таки; так бы и забрались в вагон и ехали бы, без конца гнали, глядя на незнакомые города, деревни и поселки. Казалось, там, где-то за лесами и горами, ждет их что-то таинственное, что-то необыкновенное, о чем они даже не слыхивали, и в ожидании всего этого сладко замирало и торопливо билось сердчишко: тук, тук.
Последний раз они были на станции с год назад — с отцами в Свердловск ездили. Здесь все так же, как и тогда: в тот же грязно-желтый дорожный цвет окрашено старинное станционное здание с высокой у входной двери деревянной ступенькой, которая по-прежнему стерта и прогибается, те же уныло длинные сараи, поставленные для каких-то железнодорожных надобностей, а дальше — бревенчатые избы с палисадниками, амбарушками и огородами. За избами тянутся к небу толстые трубы невидного отсюда завода, а в самой дальней дали, где-то, не знаю где, проглядывают сквозь сероватую вечернюю дымку горы, поросшие лесами. Днем прошли дожди, везде мертвые, печальные лужи. Безлюдно. И тихо. Как-то даже пугающе тихо.
Сарай, к которому они подошли, стоял недалеко от станции, он уже давно отслужил свое, был без стен, остались лишь кирпичный фундамент, подгнившие столбы по краям да десятка два полусгнивших досок. Ребята осмотрели пол, столбы, доски — ничего интересного.
— Подыми доску-то, подыми. Под ней кошелек с деньгами. И кольца золотые. Хи-хи!
Они не заметили, как к ним подошел незнакомый мужик в плаще, блестящих хромовых сапогах и новенькой шапке-кубанке, которая была мала и, видать, едва-едва держалась на его седеющей голове. Он был пьян, небрит и смотрел тяжело, сердито. Подмигнул:
— Ну, что нашли?
— А ничего, — простодушно отозвался Колька.
— Надо уметь искать. Я видел, как вы на старый дом забирались. — Опять подмигнул. Как-то по-особому подмигивает — затаенно, плутовато.
Да, забирались. Днем еще. На бывший купеческий дом, он метрах в трехстах отсюда, большущий, кирпичный, без крыши и потолка, без рам и дверей, одна стена уже совсем покосилась, вот-вот свалится. Впритык к этому дому стоит кирпичная развалюха поменьше, тоже без дверей и рам, но с потолком и худой покоробленной крышей. Ребята залезли на чердак, обшарили все там. В укромном углу, среди грязной ветоши, пустых флакончиков, щепок, сломанных корзин и завалов проржавевшей проволоки нашли две простые иконы, одна старая-престарая, обшарпанная, потрескавшаяся — срам глядеть. Посмотрев на изображение бога с тонким, печальным лицом, Колька сказал:
— На эти иконы, наверно, прислуга молилася. У купца-то, поди, золоченые были. И под стеклом. Я видал одну, уу какая!..
— Знаешь че… А я возьму их, — сказал Санька. — Бабке покажу. А потом сожгу в железянке.
Они хотели пойти домой, не будешь же с иконами разгуливать, но их остановил молодой мужчина в очках, при галстуке, солидный такой, видать, приезжий.
— Это что у тебя? — Видя, что Санька набычился и не хочет отвечать, добавил: — Ну, покажи, покажи, не бойся. Я только посмотрю.
Сняв очки, мужчина долго разглядывал иконы, особенно ту, которая обшарпана и потрескалась.
Ребятам было непонятно, почему он снял очки. Они впервые видели близорукого.
— Поиски, поиски… Это хороша Это прекрасно, я вам скажу. И куда же вы их несете?
— А вот дома в железянке сожгу, — ответил Санька.
— Их жечь нельзя. Что вы! Они старинные.
— А ты что, в бога веришь?
— Я верю в искусство.
— Че?
— Мне трудно сказать… Я не специалист. И нужна экспертиза. Но, думаю, что иконы эти все же представляют некоторую ценность.
— Молии-ть-ся будешь, — сказал Колька.
Мужчина засмеялся:
— Нет, я — атеист. — Он вытащил из кармана кошелек. — Сколько же у меня тут? Это на билет. Так!.. Вот пять рублей с мелочью. Больше нет. А живу я в городе. Скажу вам прямо, ребятки: иконы ваши стоят намного дороже. Одна, как мне кажется, очень древняя. Если согласны, берите деньги. Но у меня, к сожалению, больше нет.
Шутка в деле: пять рублей пятьдесят две копейки! И за что? Ребята поделили деньги пополам.
Вот такая история произошла с ними сегодня. А сейчас стоит возле них наклюкавшийся мужичонка. Даже покачивается слегка. Видать, откуда-то издалека его принесло, незнакомо акает, говорит не по-боктански грамотно. Нынче в поселок вообще понаехало много новых людей — с Украины и Белоруссии, из Сибири и с Волги, молодые и пожилые, холостые и с семьями — всякие. Селились, кто где, больше в бараках, которые росли возле завода, как опята возле старого пенька. На окраине Боктанки, между прудом и лесом, наскоро построили с десяток двухэтажных деревянных домов.
— Я — дядя Проша. Вот что, хлопчики. Найдите-ка мне где-нибудь водочки. А я вам за это денег дам.
— А где мы найдем? — хохотнул Санька. — Поди в лавку да и купи.
— Не в лавку, а в магазин. Магазины уже закрыты. Вы к заводу? Пошли.
По-осеннему торопливо надвигался вечер. На улицах ни души.
— Как пить охота, — сказал Колька.
— Сейчас, сейчас, дорогуша. — Дядя Проша опять как-то подозрительно подмигнул. — Дамочка тут одна живет. У нее всегда есть квасок. Аж в нос отдает.
Они подошли к новым двухэтажным домам. Дядя Проша зашел в полутемный подъезд крайнего дома и постучал в одну из дверей. Настороженно прислушался и опять постучал. Потом, пошатнувшись и отпрыгнув, начал барабанить в дверь кулаком. Тихо.
— Подем, ну его, — сказал Санька.
— Попить ба… А потом подем.
Дядя Проша сердито вздохнул:
— Уплелась куда-то, сволота. Пошли, в окошко поглядим.
Вышли на улицу.
— В горке у нее я как-то бутылку с водкой видал. — Дядя Проша опять подмигнул и, взяв Саньку за руку, коротко и приглушенно засмеялся: — Я тебя подниму. И ты попробуй окошко открыть.
— Да ты че это? — удивился Санька. — В чужу квартиру…
— Молчи! — Дядя Проша взял его за руку. Длинные пальцы, как клещи. — Там крючок… на честном слове. Дерни.
— Ты что, с ума сошел! Не буду я.
— Да не бойсь. Я ей скажу.
— Не полезу я. От-пус-ти!
— Я тебе не полезу. — Дядя Проша приподнял Саньку. — Открывай! Внизу крючочек. И не боись, Лизка — подружка моя. Она ничего не скажет.
Санька схватился за раму.
— Открывай, тебе говорят.
— Че-то не открывается.
— На ножичек.
— Там… там кто-то, — прошептал Санька.
— Стучи, это Лизка.
— Не, это мужик. Он лежит.
— Где лежит? — уже вполголоса спросил дядя Проша.
— На кровати.
— Врешь!
— Ей-богу, лежит. Храпит. Ну, сам послушай.
Колька не слышал храпа, хотя у него слух лучше, чем у Саньки. И в голосе Санькином Колька уловил что-то игривое, фальшивое, — уж кто-кто, а он-то знал дружка.
— В сапогах лежит. Лысый.
— Неужто опять с Митькой снюхалась. Тьфу! Я б с ним даже в нужнике рядом не сел. От сука!
Дядя Проша опустил Саньку на землю.
— Пошли еще в одно место. Уж там убьем медведя.
— Чего? — удивился Колька.
— Да это так я. Кто смел, тот и съел.
Они проходили мимо дощатых дровяников, возле которых лежала небольшая лестница. Дядя Проша поднял ее.
— Зачем берешь? — спросил Санька.
— Тебя не спросил. Это моя.
— Пошли домой, — шепнул Санька Кольке. — Ну его!
— Попить ба.
— Вот ведь… И деньжонки есть, а водки не найдешь. — У этого мужика было какое-то нервозное нетерпение.
Ребята подумали, что он снова поведет их куда-то в квартиру, но дядя Проша подошел к высокому опалубленному дому, стоявшему сиротливым особняком у тракта. Здесь был продуктовый магазин, закрытый сейчас на два огромных мрачных замка. Эти замки как бы говорили всем своим видом: нас так просто не возьмешь, не откроешь — шиш. Дядя Проша приставил лестницу к торцу дома (она не доставала до потолка) и хихикнул весело и зло: