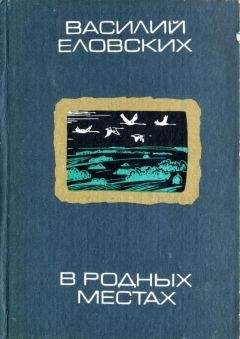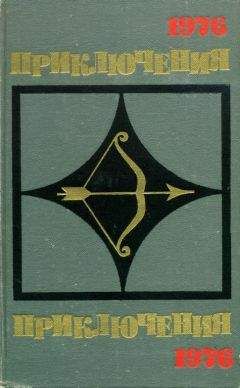Василий Еловских - Вьюжной ночью
— Ясно! — улыбнулся Фоминых. — Все ясно. Раздевайтесь, радисты.
Он снял с комода и положил на стол деревянный ящик, похожий на маленький чемодан, покопался внутри его, то и дело поправляя очки, похмыкал и, весело сказав: «Стой, не двигайся», — приложил к Санькиному уху черный наушник. Санька никогда не видел наушников и сперва не понял, что от него хотят, даже отстранился чуть-чуть. Колька, глянув на дружка, произнес что-то нечленораздельное. Фоминых погрозил Кольке длинным пальцем:
— Тихо!
Всю жизнь будет Санька помнить эти минуты! Произошло чудо: он услышал в наушнике музыку — играл оркестр русских народных инструментов. И пуще всех заливалась балалайка. Уж так она заливалась, так заливалась! Никогда не слыхал Санька такой расчудесной балалайки. Ух как пела она! Да и весь оркестр. Это было так необычно, так чудесно, что Санька тихо засмеялся.
Фоминых приложил наушник к Колькиному уху, и Колька вытаращил глаза. Чему-либо удивляясь, он всякий раз смешно таращил глаза.
Чудной человек дядя Митя: Санька с Колькой радуются, слушая радио, а он глядит на них и тоже радуется.
Потом какой-то мужчина напористо пел: «Налей, налей бокалы полней!..» Про ерунду какую поет, надо же! Прямо-таки требует, чтоб налили побольше! И никак не хочет признаваться, что уже налакался как зюзя. А голос красивый.
Санька с Колькой только однажды слышали такую чудесную музыку и такой голос. Это было в первомайский праздник. Вечером. В доме директора завода играл граммофон. А они слушали, затаившись под окошком, как воришки.
— Дядь Мить, ты сам это сделал? — спросил Санька.
— Сам.
— На заводе?
— Почему на заводе? На заводе я другими делами занят.
— А как делал?
— Ну, это длинный разговор. Сделал, в общем.
— А вот это тоже сам делал? — Санька ткнул пальцем в нутро приемника, ничем не прикрытое.
— Ты не шибко тычь, а то может током ударить. Да разве такие лампочки дома сделаешь! Ну и глупый же ты.
Насчет «глупого» шутливо сказал. Но все же сказал. Что-то частенько его дураком называют или намекают на то, что он дурак, и это вносит в Санькину душу некоторую неуверенность, смутные, горькие сомнения: а может, он и в самом деле того… И, хотя люди говорят, будто дуракам легко живется, в действительности им живется, наверное, хуже, труднее. И ему надо быть настороже, чтобы как-нибудь не выказать своей дурости. Лишь много лет спустя поймет он немудрую истину: если мальчишка сомневается в своем уме, хочет быть умнее, то он не совсем уж глуп.
— Ты где это весь день пропадал, а? — продолжала бабка. — Жду, жду, все жданки вышли. Отец те че наказывал?
— Снег велел убрать.
— Во-во!
— Щас поем и уберу.
— А ишо че велел?
— Да ничего больше.
— Не помнишь?
— Нет.
— Забыл?
— Да ничего не забыл.
— А что ты у амбара оставил?
— А!..
Третьего дня Санька неудачно прыгнул с трамплина, упал, ушибся и сломал лыжную палку. Вчера утром он сделал новую палку, оставив возле амбара кучу щепок.
— Эх! Всыпать те мало. — Это было сказано уже совсем добродушно, даже с желанием подзадорить внука.
— Баб, а баб! А мы с Колькой радиво слушали. Слыхала о радиве?
— Ну!
Судя по всему, слыхала, потому что этот вопрос не удивил и не озадачил ее.
— И куда же вас носило?
Спрашивает слегка насмешливо.
Санька рассказал.
— Делать вам неча, — засмеялась бабка. — От и шатаитися день-деньской.
Ее смех обидел Саньку.
— Ты какая-то, не знаю какая. В общем, темная.
— А ты светлый. Наскрозь просвечивашь.
— Вот скажи, слыхала ты, к примеру, о тракторах? Что молчишь? Я вот щас тебе покажу. — Санька раскрыл книжку на той странице, где был снимок трактора. — О, гляди!
Бабка поглядела. Похмыкала.
— Он сам ездит или как?
— Сам, конечно.
— А из чего он сделан-то?
— Как из чего? Из металла.
— Весь?
— Весь.
— Так ить тяжелюшшай, поди. Завязнет на пашне-то.
— Не завязнет.
— Изомнет все к лешему.
— Ну что ты такое говоришь?
— Исковеркат только. Че-то там после вашего трактара вырастет.
Бабке нравилось спорить с Санькой, подзуживать его. Это была своеобразная игра. Бабка, хоть и старая, а временами, ну как маленькая.
— А о еропланах слыхала?
— А че это такое?
Чувствовалось, однако, что бабка слыхала и о «еропланах».
— Не блезирничай давай. Скоро все будем летать на этих еропланах. Оп-па — и на месте, в Москве где-нибудь.
— Ну уж тока не я, — усмехнулась бабка. — Тут уж извини-подвинься. Бузнешься оттудов, дак и костей не соберут.
— Вот и видно, что ты такая…
— Не просвечиваю.
Ему шибко хотелось чем-нибудь поразить бабку, чтобы она взаправду удивилась, а не понарошку, но он ничего не придумал и начал рассказывать о городских квартирах, где вода прямо на кухню течет, по трубам, — об этом говорила молодая учительница, летом переехавшая в Боктанку из города.
Бабка хоть бы ухом повела. Никакого впечатления.
— И печей там нету. Вместо их тоже трубы какие-то. А в трубах — горячая вода. И — тепло, говорят.
— А где они горячу-то воду берут, если печек нетука?
— А сама по всему городу течет. Где-то подогревают ее.
— А как течет?
— Я ж говорю, по трубам.
— А кто ее гонит по трубам-то?
Санька и сам не знал, кто гонит, но признаваться не хотелось.
— В реке же течет.
Это объяснение, видать, удовлетворило бабку, и она замолчала.
— И нужники прямо в квартирах.
О теплых нужниках бабке Лизе рассказывала кума, когда они с ней осенью ходили за клюквой к болотам, путь был дальний — верст восемь-десять надо отмахать, — и по дороге о чем только не болтали. Но она тогда не поверила куме, хотя и промолчала. А если уж и в школе о том же говорят…
— В фатерах-то, поди, хоть нос затыкай. Да рази можно в доме сортир делать? Срама какая!
Это было сказано уже вполне искренне, без игры.
Бабка — известная в округе чистюля, занавески и утирки у нее белешеньки, половицы, стекла в окошках и посуда так и поблескивают. Она и внука без конца муштрует: разбросал одежду, замарал рубаху, не так почистил сапоги…
Помолчала, думая о чем-то, потом сказала как бы про себя:
— Весь белый свет перевернулся. Ох-хо-хо!..
За окном начало синеть — вечерело; на улице сугробы, могилки на кладбище завалило снегом и все сровняло; ветер раскачивает кроны сосен, за двойными рамами не слышно их шума, но Санька представляет себе, как они сейчас густо и тревожно шумят, и ему кажется, что бабушкин дом где-то далеко-далеко, в тайге.
Санька растопил железянку, длинная железная труба завыла, запотрескивала. Бабка положила на печку ломтики картошки и сказала:
— А что б ты ишо хотел поесть?
— Блинов бы. Иль заварихи.
— Ну че буровишь-то? Не буду же я большу печь топить. Возьми вон груздей соленых. Или огурчиков. Квашеной капусты можно принести, если хочешь. Паренки ишо есть.
— У меня от паренок брюхо болит.
— Выдумываешь ты все.
— Ничего не выдумываю.
— Пироги с морковью и шаньги осталися. В кринке — творог.
Саньке кажется, что бабка может запросто накормить пол-Боктанки сырым и вареным, соленым и квашеным, кислым и сладким. Даже бражки найдет, если ее шибко попросят.
— Ешь. А я потом, как приду…
— А ты куда? — удивился Санька.
— К Дуняшке. Она обещала мне соли. А то в солонке уже ниче не осталося.
Дуняшка — жена Дмитрия Фоминых, баба еще совсем молоденькая и по этой причине не водившая с бабкой Лизой особой дружбы.
Санька заглянул в солонку. Там и в самом деле была лишь щепотка соли. А вот на кухонной полке под потолком, среди банок, корзиночек и мешочков со всякой всячиной стоял на своем постоянном месте объемистый туесок, почти доверху наполненный солью.
* * *Года через два неожиданно помер Дмитрий Фоминых. Незадолго перед тем он вдруг увлекся электричеством, понакупил книжек об этом, в сенях, в клети, под сараем понавесил лампочек и, будучи неугомонным выдумщиком, начал строить какие-то, непонятные Евдокии и соседям, приборы. Тут его и стукнуло. Когда Евдокия пришла домой, пополоскав белье в прудовой проруби, муж валялся на полу и на его почерневшем лице было что-то жалкое, незнакомое.
После поминок, провожая людей, Евдокия увидела в заулке Саньку с Колькой, подумала о чем-то и окликнула ребятишек. Они решили было, что тетка Дуня угостит их остатками поминального обеда, но та взяла с комода самодельный радиоприемник.
— Возьмите, робята. А мне и этого радива хватит. — Она мотнула головой на стену, где висел на гвозде круглый черный репродуктор.
В прошлом году, как раз перед пасхой (так уж получилось), когда бабы стряпали куличи и красили яички, в Боктанке заработал радиоузел.