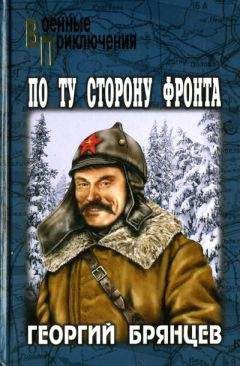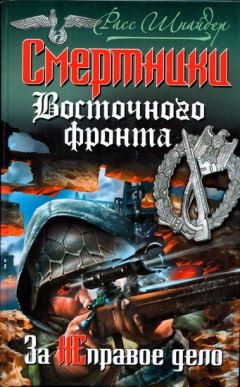Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
Снова долгая минута тишины, после которой мне задают еще вопросы. Я пытаюсь рассказать о том, что условия жизни способствовали плановому уничтожению. Узнику угрожали не только газ и пистолет эсэсовца.
Юристы, кажется, ждут, что я разовью свою мысль.
— Миллионы людей, — говорит председатель Трибунала задумчиво, словно пытаясь представить себе эту толпу или спрашивая мое мнение.
Я вдруг почувствовала смрад того еще различимого в тумане места, пропитанного лизолом и отходами, испарениями глины, растоптанной во время перекличек в два часа ночи, в четыре утра, во время работы, днем, когда иллюзия изменения обстановки длилась совсем недолго, до первого истязания, до первой человеческой крови, стекающей в песок, до первого выстрела, замыкающего короткую главу лагерных развлечений, до первой травли истощенного узника овчаркой, до первых носилок, сделанных из лопат, на которые живые укладывали уже бездыханного, но еще теплого товарища, объятые страхом и гадающие: закончатся ли на этом сегодня развлечения эсэсовцев или капо, или это лишь начало, пролог, за которым последует основная часть?
Я слышу свой слишком спокойный голос, в нем нет даже напряжения: тем, кто никогда не входил на территорию лагеря, трудно представить себя в толпе людей, стоящих на перекличке. Беспомощными словами стараюсь рассказать о голодном истощении, хроническом недосыпании (любую армию можно уничтожить недосыпанием), о тифе, бесконечных эпидемиях тифа, о кровавом поносе, сознательно поддерживаемом командой лагеря.
— Как свидетельница понимает слова «сознательно поддерживаемом»? — спрашивает председатель Трибунала.
Я должна справиться с охватившим меня гневом и тоской, поверить людям, которые обстоятельно расспрашивают. Без содрогания надо рассказать, как пропускали людей через ежедневные селекции: декабрьские переклички, которые часто длились по шесть часов, а то и целую ночь; гитлеровский «спорт» — нагишом во время снежной метели; продолжительные избиения (сто ударов палкой по почкам; чтобы убить крепкого мужчину, хватало значительно меньшего количества, а что говорить об изможденной женщине после болезни); высылка на территорию, где царила смерть, поближе к проводам под током высокого напряжения, и развлекательная стрельба по живым мишеням.
Сидящие на скамье подсудимых смотрят на меня со смирением и безразличием.
Я представляю суду доказательства возмутительной халатности работников лагеря. Эсэсовцы, которые оставили в живых свидетеля, дающего суду показания, заслуживают самой страшной кары. Schrecklich![53] Свидетель, сохранивший физические и умственные способности, обвиняет! Это дерзость! So frech![54] Сюда нельзя пускать людей, которые выжили, помнят, сохранили достаточно здоровья, чтобы предстать перед Международным военным трибуналом и говорить.
— Стоило войти в ворота, — спокойно начинаю я и снова вижу круг огней, окружающий огромную, разгороженную колючей проволокой территорию, — как тебя атаковала смерть. Кровь, зараженная вирусом никогда не проходящей эпидемии сыпняка, реагировала быстро: во всех одеялах, даже в полосатой одежде кишмя кишели вши, гниды, блохи. У вновь прибывших женщин начинался жар, они теряли сознание, умирали во время работы в поле или стоя в шеренге на перекличке. В лагере случались такие рассветы, когда возле каждого барака лежал штабель чуть присыпанных снегом нагих тел.
И я снова вижу скрещенные или раскинутые руки, синие тощие ноги, обритые головы, похожие на окоренные ветви, лишенные жизненных соков.
Я замолчала. Усталые глаза председателя Трибунала встретились с моим взглядом. У меня ощущение, что я пробираюсь сквозь чащу кошмарных подробностей, что хватит. Хватит. Позвольте мне уйти.
Корреспонденты записывали. Полковник Смирнов кивнул головой. Я тяжело вздохнула.
Я должна рассказать об этом. Прибывали эшелоны из Греции, Италии, из отдаленных районов Югославии, из России, их везли в вагонах для скота. Первый раз кормили (тем, кому вообще предстояло жить, предлагали еду, давали немного брюквы или суп из крапивы) часов через пятнадцать, а иногда и через сутки после прибытия. Полуживые от жажды, запертые на ключ в бараке, где не было ничего, кроме бетонного пола, они смотрели в окна на движущиеся человеческие тени, бледнее, чем насыщенный туманом воздух, на то, как убирали трупы. И в этот момент эсэсовка распахивала двери, раздавался крик, из кухни бегом тащили котлы: сейчас вновь прибывшие утолят жажду, получат немного воды или еды. Но тут обнаруживался первый пункт действующей в гитлеровском лагере системы. Ни у кого не было посуды. Ее отобрали вместе с одеждой перед стрижкой волос. А котлы уже открыты.
Крики эсэсовцев усиливаются, свистят нагайки, но ведь суп не возьмешь в горсть. Поделенная на пятерки толпа стоит в растерянности. Но бешенство эсэсовок творит чудеса. Вот уже дежурные несут пирамиды мисок и кастрюлек, эсэсовка подгоняет истерическим криком, под этот крик миски летят на головы стоящих женщин или в грязь. Истерические вопли оглушают, битье отупляет, но здесь все должно делаться быстро, быстро. Немного жидкости вливают в каждую миску, она едва прикрывает дно. Дрожащими руками узницы подносят посуду ко рту.
Гораздо позже, наблюдая, как принимают очередные эшелоны, они поймут, что посуду для прибывших вырывают из рук покойников, что ее складывают в бараке, где вырыта огромная помойная яма, где по углам лежат трупы с привязанными на жгутах жестяными мисками. Эти миски, обычно грязные, вонючие, облепленные грязью, испражнениями, дежурные быстро ополаскивают или вовсе не ополаскивают и суют женщинам из новых эшелонов. Отталкивающий смрад в той обстановке редко кого настораживает. Глотая, они в первый же день получают бациллы поноса. Они глотают смерть. Потому что быстрая смерть является главной целью гитлеровского лагеря.
Слова постепенно застревают у меня в горле. Рассказывая, я вижу, как на лице председателя Трибунала появляется гримаса уныния и даже брезгливости, впрочем, может быть, так у него проявляется усталость, на его щеках застыли морщины, кадык ходит вверх и вниз. Мне хочется именно сейчас, когда мы смотрим друг на друга усталыми глазами, спросить его, правда ли, что он в минувшую субботу открыл бал в «Гранд-отеле» и неутомимо танцевал до самого утра. Но я молчу. Разве можно спрашивать об этом председателя Трибунала, когда известно, что сейчас дни карнавала и обычай велит развлекаться.
До меня доходит далекий, заглушаемый шумом голос:
— Благодарю вас, вы свободны.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
У меня ощущение полного провала. Я должна была предвидеть, что не справлюсь с этой задачей, это не под силу одному человеку, с этим никто не справится в одиночку. Свидетель обвинения на Международном военном трибунале. Обходным путем, коридорами я пробираюсь к боковой двери того же зала суда, кто-то беззвучно распахивает ее передо мной, я прохожу несколько ступенек и сажусь в удобное кресло, словно зритель в театральной ложе.
Зачем я сюда приехала? Я не могла сама справиться с задачей, которую должны были бы взять на себя узники многих лагерей, профессора Краковского университета, вывезенные в Заксенхаузен, матери подростков, которых ставили к стенке, залив им в рот быстротвердеющий гипс, чтобы в момент расстрела они не могли выкрикнуть: «Гитлер капут. Вы проиграли! Ваши дети осудят вас!» А также легендарный, часто повторяемый в истории угнетенной страны лозунг смертников: «Да здравствует Польша!»
Сюда надо было пригласить женщин, которым делали принудительные операции в Равенсбрюке, живые доказательства позорного одичания немецкой медицины, подопытных кроликов. Не все умерли в лагерной больнице. Пациентки, пережившие длительные серии пыток, располагают кроме слов еще и доказательствами: у них сквозь чулки просвечивают коричневые шрамы, едва зажившие послеоперационные надрезы на покалеченных ногах. Эксперименты, проводимые для всестороннего изучения форм и симптомов газовой гангрены. Молодым женщинам вскрывали кости, вводили в костный мозг инфекцию, и затем проверяли лекарства, нужные для раненых немецких солдат.
Мысли путаются в голове, возросло чувство собственного бессилия, которое я испытывала перед дачей показаний, во мне все восстает против невозможности, абсолютной невозможности выразить полную правду, передать ее другим, особенно уравновешенным и спокойным американцам и англичанам.
Меня окружили со всех сторон, все шумят, я слышу, как кто-то, размахивая листами бумаги, говорит:
— Браво! Вы подарили нам сенсационный заголовок: «Где дети, вывезенные из гитлеровских концентрационных лагерей?» Немедленно этот материал передаем в Штаты!
Грабовецкий снова и снова представляет мне кого-то из толпы корреспондентов, я улыбаюсь, то и дело кто-то крепко, дружески жмет мне руки.