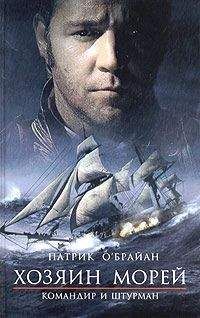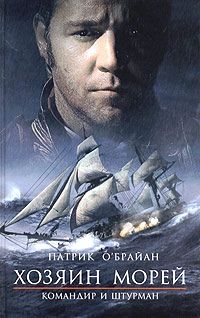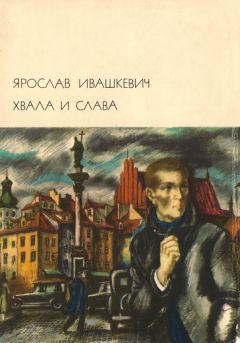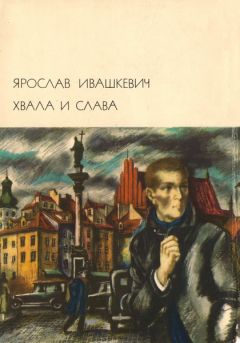Ярослав Ивашкевич - Хвала и слава. Книга третья
— Не слишком много, — опять улыбнулась Сабина.
«Улыбка у нее какая-то сердечная, даже материнская», — подумал Януш. Ему стало досадно, что он ее одернул. Сабине не хотелось рассказывать о себе — это было совершенно ясно.
— Вы что-то начали говорить? — напомнил он уже мягче.
Самогон сразу ударил ему в голову — ведь он выпил на голодный желудок целых два стаканчика. Мышинский почувствовал, что у него есть что-то общее с этой женщиной. Возможно, мелькнула у него мысль, что они думают об одном и том же.
— Да ничего. Мне просто хотелось спросить вас, — сказала Сабина. — Но если вы считаете, что в наше время не следует задавать вопросов…
— Смотря какой вопрос, — ответил Януш, пытаясь вызвать ее на разговор.
— В том-то и дело, что вопрос довольно сложный, — сказала Сабина и пододвинула к нему блюдо. — Ешьте, — сказала она, — вам еще дальняя дорога предстоит. Это мы с Софьей только так говорили, что недалеко… Боялись, что откажетесь.
— Очень хотелось отказаться. Кстати, приняли меня здесь весьма негостеприимно. Не доверяли, что ли?
— Не удивительно, ведь им с любым приходится держать ухо востро… Они очень осторожны.
— Ну да, — сказал Януш без особой убежденности.
— Я хотела вас спросить, — заговорила Сабина, — как, по-вашему, долго они тут продержатся?
Януш рассмеялся.
— Вы полагаете, что я всезнайка!
— А вы не знаете?
— Дорогая моя, я сижу дома, запершись на четыре засова, и ничего не знаю! Но даже если бы я был в самой Варшаве, Лондоне или Москве, все равно не сумел бы ответить на этот вопрос.
Сабина немного удивилась.
— Вы сидите в Коморове? — спросила она. А потом добавила: — И ничего не делаете?
Януш почувствовал себя неловко.
— Что же я могу делать? Не знаю, имеет ли большой смысл все это подполье.
Сабина задумалась.
— Возможно, многого они не сделают… Но ведь так уж заведено, что мужчина не сидит сложа руки. Мой муж не в Варшаве, он совсем в другом месте…
— Мне даже этого не хотелось бы знать, — сказал Януш.
— А вы кто же будете? — спросила Сабина.
Януш не ответил.
С минуту они помолчали.
— Ешьте, пожалуйста, — сказала Сабина.
— Больше не могу.
— Сейчас принесу кофе. У меня немного сохранилось. У нас его никто не пьет, могу вам сварить.
И исчезла в сенях.
Януш снова оглядел комнату. Выпитый самогон начал на него действовать. Теперь он заметил в хате еще какие-то вещи. На стенах висели фотографии, картинки из Сохачева, какой-то вид Желязовой Воли.
«Сентиментальная хата», — сказал он себе.
Хата, видимо, и впрямь была сентиментальной, ибо мысли Януша приняли иной оборот. Его несколько озадачили слова хозяйки: «И ничего не делаете».
Януш мог делать то же, что и те, кому он сегодня нанес визит. И он с досадой подумал, что все-таки испытывает к этим людям нечто вроде антипатии. Но признавшись себе в этом, тут же устыдился и одернул себя.
И все-таки он не мог избавиться от какой-то внутренней неловкости. Что-то во всей этой истории его не устраивало. Впрочем, что именно — не составляло тайны. У Януша было врожденное отвращение ко всякой деятельности — он обнаружил это, разумеется, не впервые. И вооруженные действия, и военный лагерь, и приготовления к борьбе — все теперь претило ему. Он подумал об Анджее. Януш был глубоко убежден, что по натуре Анджей ему сродни. Их разговор под дубом в Коморове в тридцать девятом году был полон недомолвок. Но Януш понимал, что Анджей, как бы обязуясь действовать за него, взваливая на свои плечи всю тяжесть ответственности, чинил насилие над собственной натурой.
«Каким же образом это ему удалось?» — спросил он себя.
Вспомнил, что говорили (все это передавала ему Ядвига, возвращаясь из Варшавы) о последних подвигах Анджея. Януш огорчался, ведь он очень любил этого юношу. И прекрасно знал, что Анджею нелегко было превратиться в такого рубаку и что он наверняка тоже страдает.
«Надо бы лишить его моих полномочий, — подумал Януш, словно переносясь в сферу деловых отношений. — Я должен взять все это на себя».
В ушах его звучал вопрос Сабины: «А вы кто же будете?»
Он хотел подумать над этим, но мысли путались. Что бы он мог ответить на этот вопрос? В сущности, кто он такой? Что означает его присутствие в этом мире, который сделался столь нелепым и жестоким? Какой смысл имеет его существование? «Кто обо мне думает? Кто меня помнит?»
И весьма странная мысль пришла ему в голову: а может, помнит о нем — где-то там, в далекой России, — его непостоянный друг Володя? Он попытался представить себе, как сейчас относится Володя к ним, полякам. Какие мысли обуревают его в момент, когда советские войска приближаются к границам Польши.
«Наверно, вспоминаются ему наши одесские разговоры, наши встречи, неожиданные и такие странные, и все то, что мы успели сказать друг другу. Наверно, вспоминается и то, о чем мы не успели или не решились сказать друг другу, все то недосказанное, что, однако, оказало глубокое влияние на эту нашу дружбу. Удивительно, — рассуждал он, — что двух друзей разделяет именно то, о чем они не решались говорить. Все, что осело на дне фраз, на дне сердец, на дне слов, которые в общем-то не означали в их разговорах того, что должны были означать».
Володя не питал к полякам особой нежности и не скрывал этого от Януша. Он недооценивал их, хоть и признавал, что они хорошие солдаты. Но после бесед с ним у Януша всегда оставалось впечатление, что Польша привлекает Володю и он говорит не то, что чувствует, а только то, что, как ему казалось, должен говорить. Володе было небезразлично его происхождение — ведь фамилию-то он как-никак носил польскую.
«Ариадна считала себя полькой», — вспомнил Януш.
И это имя — Ариадна, всплывшее сейчас в столь своеобразной обстановке, помогло Янушу осознать всю нелепость положения, в каком он оказался. Более того, нелепость всей его жизни — жизни человека, совершенно не приспособленного к действительности, которая уже столько лет его окружала. Такая участь показалась ему незаслуженной, недостойной поляка, ведь это было прозябание на задворках событий. Он писал сегодня письмо Билинскому и оставил его на столе неоконченным. И теперь, сидя здесь, в убогой крестьянской хате, между лесом и партизанским лагерем, он подумал о том, что письмо это, изобилующее — о боже! — ссылками на историю Польши, было таким искусственным, таким никчемным и, собственно говоря, совсем не соответствовало его нынешнему положению. Хуже всего была именно эта его неприспособленность. А также то, что он мог размышлять о «вечных» проблемах, стоя перед партизаном с бакенбардами, старался создать себе искусственный мир, который брала приступом польская действительность, носился с собой и придавал собственной личности значение, какого не только не было, но и не могло быть. Какой смысл имела его жизнь для этой деревни, для партизан, для этих людей, которые все так же гибли в повседневной сутолоке? Он приписывал своей встрече с Ариадной какое-то невероятное значение, но едва это удивительное имя было произнесено в пустой крестьянской хате, ему тут же стало ясно, что эта встреча, как и сама его жизнь, ровным счетом ничего не значила.
«Так продолжаться не может», — сказал он себе.
И подумал, что письмо Билинскому — всего лишь попытка придать значимость своей пустой жизни. Напряжение всех сил ума и души, чтобы оставить после себя след, какого не оставили люди, из поколения в поколение рождавшиеся, работавшие и умиравшие в Люцине, в этой хате. Только пласты моллюсков, образующих меловые отложения, лежат здесь. Ему страшно было думать о себе как о существе эфемерном, преходящем, но он чувствовал, что такова его судьба.
«Восставать против судьбы? Невозможно, — снова произнес он почти вслух. — Однако такой бунт…»
В эту минуту в сенях послышались шаги хозяйки, и она с довольно таинственным видом вошла в комнату.
В руке Сабина несла небольшой чайник с кофе. Она налила Янушу стакан. Кофе был жидкий, но Януш так давно не пил кофе, что обрадовался и такому.
— Я думаю, — сказала Сабина, присаживаясь напротив гостя, — что вы страсть какой ученый.
— Ученый? — спросил Януш.
— Ну, так говорят тут, в деревне. Одним словом, начитанный, как вы бы сказали.
Януш недоверчиво покосился на женщину. Все меньше походила она на деревенскую бабу, и все заметнее проглядывал в ней человек, который лишь скрывается в деревне. Он слегка насторожился.
— В чем начитанный?
— Впрочем, начитанность не имеет тут ни малейшего значения, — произнесла Сабина, как бы совсем отбрасывая личину. — Дело не в этом. Мне хотелось бы знать, как человек вашей культуры оценивает наше положение.
Януш улыбнулся.
— Мне кажется, вы явно ошиблись адресом. Вы видели, как я живу — ведь ко мне не доносится даже эхо войны, а что уж говорить о каких-то важных политических проблемах. Я политикой не интересуюсь.