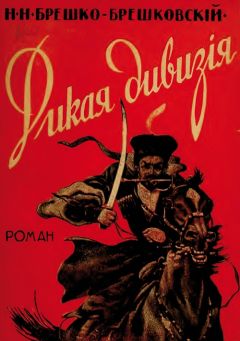В когтях германских шпионов - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
В третьей газете: «Из авторитетного источника сообщают нам, что Северные заводы получили колоссальный правительственный заказ на десять тысяч автомобилей…»
И так дальше, в таком же духе…
Биржевые азартные страсти, распаляемые этими заметками, разгорались без меры, без удержу. Все кинулись очертя голову, обуреваемые жаждою сказочного обогащения, в биржевую игру. Сановники, офицеры, дамы света и полусвета, генералы, студенты, актеры, директора гимназий, консисторские чиновники…
Торжествующий Ольгерд Фердинандович потирал свои пухлые руки. У его банка на Невском весь день было столпотворение Вавилонское. Посылался наряд конной полиции, чтоб регулировать правильное движение всех этих колясок, автомобилей, карет, извозчичьих пролёток, сгустившихся живой человеческой, лошадиной и металлической массою у фасада капища, главным жрецом которого был Ольгерд Фердинандович Пенебельский. Банк ломился от все прибывавшей и прибывавшей публики. И эта шумная, нервная публика осаждала медные сетки, за которыми сидела целая армия служащих Пенебельского. И всякий спешил запастись акциями предприятий и обществ, о которых трубили в газетах, акциями, сулившими сказочное обогащение.
Но еще большее столпотворение Вавилонское царило на бирже. Там разгоралась вовсю бешеная азартная вакханалия, в этом храме плутоватого бога Меркурия, храме с классическим портиком и монументальными колоннадами.
Стоял немолчный галдёж, люди орали до хрипоты, до потери собственного голоса. Вспотевшие лица, безумный блеск глаз, размякшие, липнущие к шее воротнички… И посреди всего этого шума и гама «зайцы» Ольгерда Фердинандовича, исступлённо выкрикивая, торговали акциями, этими волшебными акциями, вчерашнего бедняка превращающими в индейского набоба или креза.
— Малахитовые!..
— Северный завод!..
— Нефть!..
— Беру!..
— Даю!..
— Деньги!..
Трещали телефоны. Сбились с ног телеграфисты, посылая срочные депеши во все концы обширного государства Российского, от Архангельска до Колхиды и от Варшавы до Владивостока. Летели телеграммы в Париж, Лондон, Будапешт, Вену, Константинополь, Берлин… Летели повсюду…
К полудню стихала горячка, и громадный зал выплёвывал из себя на гранитную лестницу весь человеческий муравейник, продолжавший гудеть под открытым небом. И все эти биржевики, большие, средние и маленькие, сообразно чину своему, положению и карману, садились, кто в собственный мотор, кто в коляску, в извозчичью пролетку, а кто и на «паре батьковских» бежал до трамвая. Дальнейшее в таком же духе, сообразно непечатанным рангам своим. Одни — в богатый кабак, на Морскую, другие — в трактир подешевле, а третьи ограничивались бокалом пива где-нибудь в тёмном погребке.
И повсюду, и на Морской, за подогретым бордо, бережно поданным в корзиночке, и в трактире за рюмкою водки, и в пивной — продолжение всеобщего азартного галдежа, только разбитого на кучки и группы…
Пенебельскому надо было заполучить к своим услугам столбцы ходкой, распространенной газеты «Четверть секунды». Там еще не появлялось соблазнительных строк о нефтяных фонтанах и о малахитовых залежах. Ольгерд Фердинандович вспомнил кавалера звезды Скандербека Бориса Сергеевича Мирэ. Вспомнил и пригласил его в свою готическую столовую к завтраку.
Ольгерд Фердинандович ложкой, точно гречневую кашу, наложил гостю зернистой икры.
— Кушайте себе на здоровье, Борис Сергеевич. Икра теперь в безумной цене, четырнадцать рублей фунт!..
Появилась откуда-то приземистая запыленная бутылка с венгерским.
— Это сорок восьмой год! После революции, когда наши войска вернулись из Венгрии, несколько бутылок этого вина попало в Россию. И вот я купил их по случаю, и каждая обходилась мне в семьдесят пять рублей. Но потом, когда мы будем пить кофе, — попробуете наполеоновский коньяк. Вот коньяк! Если им попрыскать носовой платок, честное слово, как духи пахнет! Давайте ваш платок!..
Борис Сергеевич при всей хрупкости своей обладал всегда хорошим аппетитом. Он уничтожил, работая гуттаперчевыми губами, тарелку зернистой икры, съел несколько крохотных бараньих котлеток в белом, жирном соусе, отдал дань венгерскому сорок восьмого года, ударившему его не по голове, а по ногам. Голова оставалась ясна. Смакуя, выпил рюмочку наполеоновского коньяку, который, если и не был наполеоновским, то был во всяком случае — хорошим.
Потом они вместе с хозяином перекочевали в «наполеоновский» кабинет. Здесь — четырехвершковые сигары по пяти марок за штуку.
— Ну, как вам нравится?
— Ничего… приятный аромат…
— Что значит ничего? — обиделся Пенебельский. — Вы только подумайте, эту марку сам Эдуард король английский курил! А вы говорите — ничего?..
— Я не знаток в сигарах.
— Вот что, Борис Сергеевич, переходим с вами на деловую почву. Будем говорить по-заграничному. Всякий человек хочет жить. Вы знаете, что такое «публиситэ»?
— Знаю…
Лицо Мирэ вдруг окаменело и благожелательное, обволакивающее взглядом собеседника выражение исчезло. Но Ольгерд Фердинандович был плохой психолог. Человеку, привыкшему все покупать, не до психологических тонкостей.
— Так вот — публиситэ! Мне надо помещать в «Четверть секунды» несколько маленьких заметочек… Ну, самый пустяк. Я вам даю схему, а вы себе разрабатываете. У вас ведь перо. И какое перо!..
Борис Сергеевич молчал, и что-то подозрительное было в его молчании…
«Погоди, ты у меня заговоришь»… Ольгерд Фердинандович открыл ящик письменного стола и, вынув уже приготовленную пачку сторублёвых, ловким движением фокусника, сделал из неё на кожаном бюваре радужный веер.
— Вот!.. Как раз счётом десять «катеринок». Я думаю, между нами такие хорошие отношения…
— Господин Пенебельский… Я люблю радугу на небе, а не на вашем письменном столе.
— Но почему? А как же схема?..
— И схему потрудитесь оставить у себя. Или, по-вашему, я должен расплатиться оскорблением за венгерское сорок восьмого года и наполеоновский коньяк?..
— Полноте, Борис Сергеевич. Это же совсем не оскорбление. Я и не думал… Ну, хорошо. Сейчас не надо схемы. Возьмите так!..
Мирэ поднялся, и его гуттаперчевые губы задрожали.
— Послушайте, господин Пенебельский. Хотя я в вашем доме, но я не ручаюсь за себя… Еще одно слово — и я запущу в вас этим пресс-папье…
Ольгерд Фердинандович умоляюще протянул свои, пухлыми ладонями вперёд, руки.
— Не надо! Зачем портить вещи? Ой, какой же вы нервный. А я думал, что вы настоящий западный журналист…
— Вы не туда попали, господин Пенебельский. Советую вам эту тысячу пожертвовать на… германский воздушный флот… Имею честь…
Мирэ вышел, оставив Ольгерда Фердинандовича неподвижным, бледным и с похолодевшей спиною…
А через несколько дней разнеслась по всей земле весть о Сараевской катастрофе. Отозвалось это на бирже безумной, ошеломляющей паникой. И эти самые люди, убитые, придавленные, с дрожащими челюстями и дикими глазами, быть может, в последний раз садились в свои блестящие на солнце моторы и коляски. Больше не будет для них ни моторов, ни колясок, ни ресторана угол Кирпичной и Морской, а будет — нищета и позор.
Один Ольгерд Фердинандович Пенебельский с довольной улыбкою встретил убийство наследного эрцгерцога австрийского. Он знал то, чего другие не знали… И в этом была его сила…
9. Возвращение Флуга
Наступили нервные дни.
Участились экстренные выпуски газет. Наэлектризованная публика, сама себя приготовившая к легчайшему восприятию самых ошеломляющих новостей и сенсаций, жадно искала этих новостей и сенсаций в газетах, причем у многих фантазия работала с красочностью изумительной.
Когда стало известно, что австрийцы обстреливают из тяжёлых орудий незащищенный Белград, никто не сомневался, что общеевропейский мир висит на самом тончайшем волоске и того и гляди вспыхнет война между великими державами, такая война, неслыханная, небывалая, от которой содрогнется земля…