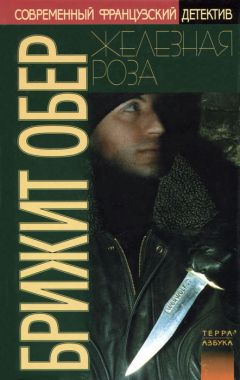Валерий Поволяев - Список войны (сборник)
— Стой! — заорал Шурик, и Федякин, словно бы отрезвев от его крика, перестал выдергивать из-под деда ружьё, разинул рот в яростном ругательстве, отпрыгнул в сторону от телеги, покатился вниз по дну оврага, ломая кусты и перепрыгивая через бочаги.
— Сто-ой, га-ад! — закричал Шурик снова. — Стреля-ять буду! — он пытался высвободить из-под деда ружьё, но это у него, как и у Федякина, не получалось. — Сто-ой, фашист!
Из глаз у Шурика брызнули слёзы обиды, гнева, бессилия. Федякин, по пояс скрытый кустами, вдруг растворился в горячей пелене, застившей Шуриковы глаза, и Шурик понял, что Федякин сейчас уйдёт. Совсем уйдёт — до густого подлеска ему оставалось всего ничего, каких-нибудь двадцать-двадцать пять метров. Он же их в несколько прыжков одолеет, вот чёрт!
— Де-ед, ружьё! — бессильно простонал Шурик. — Удерёт ведь. Совсем сейчас удерёт.
— Держи мер-рзавца! — прохрипел дед. — Он мене, сволота, глаз выбил.
Бегущий Федякин тем временем застрял — угодил в калужину с проклёвывающейся гречкой «бабьей радости» и никак не мог выбраться из неё, ноги вязли в клейком густом месиве, в калужине чавкало, хлопало пузырями, ярилось хрипло и никак не хотело отпускать Федякина.
— Отпусти, — выжал Федякин из горла крик с мольбою и злостью. Всхлипнул. — Ну, отпусти же! Не то ведь застрелят меня. Дай уйти!
Шурик тем временем всё же вытащил из-под деда ружьё, притиснул приклад к плечу, стёр мокроту с глаз, поймал дезертира на мушку.
— Патр-роны запасные у меня в кармане, возьми их, — прокашлял жалобно дед Петро. — Картечью заряжены, «двумя нолями». Слышь, председатель, в кармане патроны! Слышь!
— Сто-ой! В последний раз предупреждаю… — Шурик задохнулся в крике. Откашлялся. — Иначе стреляю. Сто-ой!
Но Федякин, выбираясь из калужины, хрипя и матерясь, будто и не слышал Шурика.
— Во-от патроны, — дед Петро достал из кармана три озеленённых окисью латунных стакашка, — дер-ржи!
Шурик, вспомнив прочитанное где-то, что убегающих бандюг обычно бьют по ногам, стреляют не под лопатки, а в конечности, опустил мушку ниже, помедлил с выстрелом, ожидая, когда же Федякин выберется из калужины окончательно. Озноб и возбуждение прошли, в груди всё улеглось, даже сердце, кажется, перестало биться в ожидании выстрела, мозг работал спокойно, холодно, расчётливо. Федякин наконец одолел калужину, выбрался на твёрдое место, снова врубился в кусты.
И тут вдогонку ему ударил выстрел. Было слышно, как дробины мазнули рикошетом по камням, со свистом ушли вверх, отбитые булыжной бронёй. Промазал! Шурик выдернул из дробовика гильзу, швырнул в телегу, из дедовой руки выхватил новый патрон.
— Стой-ой, га-ад!
И, похоже, Федякин его послушался. Остановился, поворачиваясь лицом к телеге, испуганный, с белым сахарным лицом, потом вдруг подкосился в коленях и упал навзничь.
«Уби-ил! — мелькнуло в мозгу у Шурика неверяще. — К-как же это так — человека убил, к-как же это так? Не может быть, не убил я его, он нарочно упал. Вы понимаете, люди, нарочно».
Понесся, перепрыгивая через кусты, вниз, к Федякину, задыхаясь и выкрикивая на бегу:
— П-перестань притворяться, п-перестань! Ведь я же тебя по ногам бил, чтобы ты не убегал. Я ж предупреждал тебя, что стрелять буду. И-перестань притворяться. Ну!
Однако Федякин лежал не шевелясь.
— Ну, вставай, перестань притво… — Шурик осёкся на полуслове, увидев, что выгоревшие федякинские брюки в нескольких местах посечены дробью и сквозь мелкие рванины кое-где уже проступила кровь.
Значит, всё же попал, значит, убил Федякина. И теперь судить будут не дезертира, а его, председателя колхоза Александра Ермакова. Но ведь Федякин сам во всем виноват — он соскочил с телеги, чуть не убил деда, глаз ему повредил, хотел дробовиком завладеть — Федякин сам во всём виноват, только он, и больше никто!
Федякин застонал, пошевелился — видно, был контужен дробовым охлестом, оглушило его.
— Куда я тебе попал? — по-прежнему неверяще, вздрагивающим голосом спросил Шурик.
— В ноги, подлюга. Ну, погоди…
— Не грози. И не такое видели, лежи пока спокойно, я сейчас тебя перевяжу, — Шурик оглянулся назад на телегу, соображая, есть ли там какая-нибудь чистая холстина, тряпка-утирка, кусок рядна, куда заворачивают продукты.
Ничего подходящего в телеге вроде не было. Тогда Шурик скинул с себя пиджак, рванул рубаху на спине — в районе, когда перед начальством предстанет, рваное место можно пиджаком прикрыть, — перевязал Федякину пробитые дробью икры.
Что же касается стонущего деда, то с ним тоже ничего страшного не случилось, хотя синяк под глазом образовался порядочный, чернел зловеще, и дед Петро, косясь на Федякина, ожесточённо плевал через борт телеги в степную пыль, бормотал про себя что-то угрожающее — похоже, призывал в помощь силы небесные, чтобы те наказали обидчика.
Остаток пути до райцентра проделали без приключений.
Там Федякина сдали в крепкостенный, окрашенный в весёлый зелёный колер дом — районный отдел НКВД, там же узнали, что Федякин действительно является дезертиром — сбежал из госпиталя, куда попал не по ранению, как он сам расписывал, а по болезни. Сведения о дезертире в Никитовку не подавали, не думали, что он в деревне объявится, — думали, на станции, в тамошнем посёлке возникнет, поэтому никитовцы и их председатель Шурик Ермаков ничего, абсолютно ничего о дезертире не знали.
Вскоре в правление пришло сообщение, что Федякина судил трибунал, к «вышке» — высшей мере — приговаривать не стал, а отправил на фронт, в штрафной батальон.
— Ох-хе-хе, вернётся он из штрафников, покажет нам с председателем, где раки зимуют, — сокрушался дед Петро, узнав, что за наказанье было определено Федякину. Трогал место под глазом, до сих пор украшенное неровным черноватым пятном — синяк не сходил долго, очень долго. — Тогда он не такой фингал мне поставит. Следующий синяк до самой задницы вспухнет. Кулак-то у Федякина — во!.. — разводил руки в стороны, показывая, какой у Федякина кулак.
А Татьяну Глазачеву, вызванную в районный НКВД, вот уже две недели не отпускали, — как пособницу дезертира, — но вины за ней, говорят, особо, не находили.
Война тем временем продолжалась. Конца-края, похоже, ей не было, разгоралось кадило всё сильнее и сильнее. Приходили с фронта похоронки, письма-треугольники от раненых, лежащих в госпиталях, вести о том, что кто-то пропал, уйдя в разведку, кто-то не вырвался из окружения, кого-то видели мёртвым у подпаленного танка, кто-то попал в плен. Даже не верилось, что в маленькой Никитовке может быть столько солдат, что всё это происходит с людьми, которых Шурик знал с зелёного, ещё бесштанного детства, которые и на воинов-то, честно говоря, похожи были не больше, чем домашняя кошка на саблезубого тигра. Уж очень они безобидными, небоевитыми, мужики никитовские-то были — эти кое-как одевающиеся, кое-как обувающиеся, мирные люди, борцовского пыла которых обычно хватало лишь на несколько минут. Видно, время-времечко, оно сильно людей меняет.
Газета «Правда» — а из центральных газет получали только «Правду», — приносила в Никитовку разные вести. Все затихали, когда Шурик читал бабам и старикам заметки о делах на фронте, лица становились вытянутыми, напряжёнными.
— Неплохо было бы, если б нам американ подсобил, — вздыхал дед Петро, вытирая нос концом шарфа-самовяза. — Пора господам хорошим в драку вступить.
— Отправь, дед, письмо наркому иностранных дел, пусть он прикажет американцам. Вот тогда сообща и повоюем, — не выдерживая, ехидничал Юрка Чердаков.
— Молчи, кашеед, — прикрикивал на него дед Петро, напускал на себя строгость, вскидывался гордо словно кочет. — В общем, и без американа бьём Гитлера и в хвост, и в гриву. За чупрынь его дёргаем, усы дерём.
— Бить-то бьём, а конца войне не видно. Дед Петро прав — американец должен в войну встрять, — Клава Овчинникова одёрнула на коленях юбку, поймав скользящий взгляд Юрки Чердакова.
— Всё, пора за работу! — Шурик вставал первым. — Подъём!
— Три тыловых «гэ» наживать, — хмыкал Юрка, — горб, грыжу и геморрой.
— У кого «гэ», а у кого… — голос Шурика терял звонкую ломкость, делался жёстким, будто Шурик сутки на ветру провёл: он умолк потому, что уловил растерянный, казалось бы, совсем беспомощный взгляд Сенечки Зелёного, устремлённый куда-то за спины говоривших, и неожиданно сгорбился от чего-то тоскливого, непонятного, наполовину пустого…
Все за зиму, несмотря на худые харчи, все же окрепли, поздоровели: Чердаков, например, совсем в мужика превратился, с таким уже опасно связываться, сам Шурик хоть и не прибавил в силе, но тоже чуть подрос, голос — вона! — хриплым, взрослым сделался, а вот Сенечка Зелёный каким был, таким и остался — хлипкий, щуплый, квелый словно огурец недоросток. А тут ещё весть с фронта пришла, совсем пригнула Сенечку к земле — погиб его близкий родственник, председатель колхоза Зеленин. Хоть дядя никогда и не баловал племянника, мужиком он был довольно суровым и скупым и слова ласковые, подбадривающие обычно держал в загашнике, редко кого ими одаривал, а всё же оказалось — занимал он в Сенечкином мире, в душе его, прочное, чувствительное место.