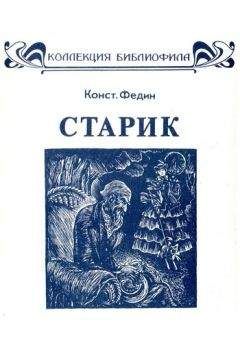Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
Показалось, что решение это было принято давно.
XVI. «Дизиртиры»
— Иди за кондуктором, — шепнул литовец. — Сказал: этот на Полтаву. Повернет за паровоз, а мы в теплушку.
— А может, на площадку или на крышу?..
— Снимут.
В темном углу теплушки зашевелились. Из-под полы распластанной одеялом шинели выглянуло встревоженное заросшее лицо.
— Шли бы куда еще… Мало вагонов?
— И то, — сказал литовец. — Счастливо доехать!
— Гляди — с нарами, — показал Андрей.
— Здорово. На нарах никто не увидит.
Свернувшись под шинелью большими клубками, отлеживали долгие часы, свободнее — на ходу, таясь, замирая — на остановках.
Скрипели двери. Не видя, знали — кто-то взглядами ощупывает вагон. Дверь закрывалась с визгом немазаного колеса.
В полыхающем ветром узком окне проплывали мимо ослепительные станционные фонари. Белый месяц, высоко подняв нос челнока, заплывал куда-то за крышу. Глубинами и заводями зеленоватого ночного озера тянулись поля и перелески. Дальние огоньки, желтые точки, перемигиваясь, шептали о другой жизни.
Сон отрывал по многу часов сразу. Во сне тело крепло даже без пищи и питья.
Как-то наутро разбудили. Над нарами поднялись два лица. Одно — уже знакомое, с тою же почти скульптурной тревогой.
— А наш отцепили в Бахмаче.
— Полезай, — сказал литовец. — Места хватит.
Солдаты забрались на противоположные нары.
На станциях все так же таились, на перегонах разговаривали.
— Вы кто ж такие будете? — спрашивал литовец.
— Мы дизиртиры, — отвечал просто старший.
— Харьковские?
— Не, мы донские.
— Казаки?
— Не, иногородние.
— А поймают?
— Зачем? — разгладил бороду дезертир. — Усякому понятно…
— А дома документы спросят, — сказал Андрей.
— Ну, ты скажешь, — усмехнулся солдат.
— Спросят, — подтвердил уверенно литовец. — Дня три проболтаешься, а там давай дёру.
— Из дому-то?
— Вот чудак! — искренне досадовал Андрей. — Что же, ты устава не знаешь?
— Как не знать, обучены.
— Так ты знаешь, что там про дезертиров сказано?
— Сказано, это верно, что сказано, — качал головою солдат.
— Ну и сцапают тебя, милаша, — смеялся литовец.
— Ну, ты скажешь, — начинал тревожиться солдат. А потом успокоительно и не без ехидства спросил: — А вы что ж, с документами?
— Мы побудем — и на фронт, — поспешил отгородиться Андрей.
— Ты, наверное, действительный?
— Не угадал, дядя.
— Ну, тебе, наверное, там ндравится.
— Его вошь сильно любит, — сказал, почесываясь, молодой с лицом прирожденного скептика.
— Кто действительный или молодой, ну, тому известное дело, — продолжал первый. — А без нас дома никак невозможно… Устав, оно конечно… А то бы все бегали. Ну, а нам по семейному положению невозможно…
— Война никому не нравится, — перебил Андрей. — А раз нужно, ничего не сделаешь.
— Кому нужно, тому, что ж… той пускай и воюет. А нам без надобности.
— Ну, а если немцы к вам на Дон придут?
— Што ты, голубь! К нам шесть ден на машине ехать да конем сто двадцать верстов. И хранцуз к нам не заходил. Спаси бог, никого не было, и деды не помнят.
— Ну, а если немцы у нас Прибалтику заберут, Ригу или Киев?
— А, — протянул другой дезертир. — Так, так…
— И вообще отберут земли богатые, плодородные.
— Земли этой, — посмотрел солдат на ленту полей, бежавшую за дверью. — Ее сколько у нас на Дону!
Едешь, едешь, и все конца-краю не видать. А за Волгой — бывали наши — и вовсе… и деревень нету — приходи владай. А отдавать не след. Чего ж свое отдавать?! Насчет плодородия — не родит земля наша. Как бог пошлет… Иной год уродит, а иной и семян не соберешь. И мы в Сибирь уходить собрались. Кабы не война… — И мысль его явно уходила на родину. Как магнитами железные опилки — тянуло в одну сторону разорванные, развороченные войной мысли.
— А если бы у тебя брат на границе жил и немец стал бы у него землю отбирать, ты бы заступился?
Солдат опять смотрел на Андрея глаза в глаза.
— Ты, наверное, из образованных будешь, я вижу. Ишь ты, все как мудрено. Если да если, что да что… — И опять стал смотреть в просвет двери.
— Вольноперы, они все за войну, — недружелюбно сказал скептик, — потому хочут в охвицера выйти.
На остановке пришельцы незаметно исчезли.
— Несмышленый народ, — сказал литовец Андрею. — Который бедный, некогда ему про порядки думать. Вот он и не знает, зачем воюет.
«А что, если бы я сам не знал, за что идет война, мог ли бы я воевать? — подумал Андрей. Трудно было представить себе мир без газет, без книг. — Вероятно, не мог бы».
На узловой станции разошлись. Надо было садиться в разные эшелоны. Литовец оставил Андрею адрес и обещал написать.
Андрей теперь один катил в пустом вагоне, на станциях лежал притаившись, как заяц.
Когда вдали в зеленых полотнищах лугов увидел зеркальный прорез реки и мост рыбьим скелетом зачернел на пути, забился в угол, в самую темноту. Окно захлопнул.
Перед мостом раскрылись двери. Кто-то заглянул, потом вскочил в вагон.
Над нарами поднялась фуражка железнодорожника.
Глаза под козырьком смеялись. Издевка или сочувствие?
— Далеко ли, земляк? — бросил пришелец.
— До Горбатова, — просто сказал Андрей и поднял голову.
— Горбатовский?
— Да, на несколько дней. И опять на фронт… — смущенно начал было Андрей.
— Ну, езжай, езжай, — перебил железнодорожник. — Много вашего брата теперь ездит. Такое дело. А только в Горбатове этот вагон отцепят.
Сказал и легко выпрыгнул из вагона.
Андрей не поверил железнодорожнику. Ждал — снимут.
Но в Горбатове вышел из вагона спокойно и пошел по путям к дому, избегая людных улиц, по которым гремели пролетки с приезжими.
Потом шел мимо старых заборов, садов, особняков, мимо окон с фикусами. Хотел, но не мог расстаться с чувством человека, которого незаслуженно лишили ожидаемого, как награды за долгое терпение, большого удовольствия…
На бивуаках ночами, в седле на походах, на наблюдательном, когда мысли уходили к той, оставленной жизни, Андрей совсем не так представлял себе первый приезд домой в Горбатов.
Конец войны, короткой, напряженной, после ярких, сильных ударов, после успеха, который сломит напряжение противника, — приезд на заслуженный отдых, когда радость встречи перехлестнет через все преграды житейского, через характеры и старческую сухость и вернувшийся воин будет обласкан всеми, и знакомыми, и чужими.
Разве не выданы в августе 1914 года всеми жителями Горбатова такие векселя уходившим солдатам и офицерам?
В тысячах вариантов представлял себе Андрей эти минуты, часы и дни, эту единственную, в сущности, реальную и личную награду за «подвиг бранный».
Он представлял себе, как он приедет безногим или безруким георгиевским кавалером, усталым, снисходительным философом, закалившим волю, спокойным мужем, сдержанно перебирающим воспоминания.
Но никогда, даже в усталой дремоте, не видел он себя таким грязным, вшивым, тайком пробирающимся к отцовскому дому, в белье чернее горбатовской пыли.
Заросший, исхудалый, больной — не раненый герой, а прозаический больной — почти здоровый (может быть, все дело было в касторке?), без документа, полудезертир, или даже, что говорить, просто дезертир.
В какую же позу стать при встрече с родными, товарищами, подругами? Как примут его люди, знающие войну по стихам и газетам? С ними, должно быть, и сейчас можно говорить обо всем только тем поднимающим, бодрящим языком, какой подобает «воспитанному человеку», который не стремится выделиться нигилистической оригинальностью.
Сам Андрей уже не чувствовал себя в силах говорить так, как говорил перед войной и первые месяцы на фронте. О тягучей медлительности войны, о ее буднях, о том, что по-настоящему заполняет день человека на фронте, начиная от вшей, стирки белья и штопки и кончая борьбой за чины, ордена, за столовые, суточные, подкормочные, нельзя было говорить языком патриотических заклинаний.
Было бы самое лучшее, если бы его никто ни о чем не расспрашивал.
XVII. Отцы и матери
Отец встретил Андрея словами:
— Ты откуда? Цел? — И в глазах засветилась никогда не виденная Андреем тревога.
Взгляд отца внимательно прошел по его ногам и рукам, как бы ища повязку, может быть деревяшку.
— Ничего, цел. Заболел на походе. Воспалением легких, что ли… Только теперь проходит.
— Ага, ну что ж, хорошо. — И вместе с тревогой потухло и любопытство.
Андрей посмотрел на себя в зеркало. На исхудалом лице неопрятные клочья. Рыжая борода. Видел ее впервые. Шинель смятым, покоробленным колоколом, вся в крепких пятнах, висела до полу, непригнанная, с ремнем не по талии. Сапоги в этих комнатах с навощенными полами казались святотатством. Красный артиллерийский шнур от револьвера напоминал об урядниках и городовых.