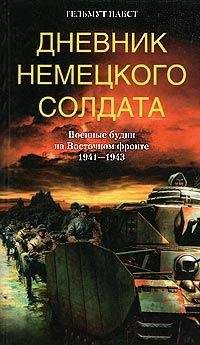Гельмут Бон - Перед вратами жизни. В советском лагере для военнопленных. 1944—1947
При написании негативных высказываний мы просто прислушивались к тому, что нам подсказывало собственное сердце: «Советский Союз ведет себя точно так же, как и другие империалистические разбойники!»
Положительные высказывания мы вкладывали в уста тех военнопленных, которых считали приличными людьми, достойными того, чтобы при удобном случае ходатайствовать перед Борисовым о переводе их на тепленькое местечко на кухне.
Что же касается негативных высказываний, то здесь нам приходилось долго ломать голову, подыскивая подходящие кандидатуры. Нам было недостаточно того, что кто-то украл у своего товарища хлеб. Голод, как известно, не тетка! У нас должно было сложиться твердое убеждение о ком-то, что этот человек настоящая сволочь и законченный подлец.
Может быть, мне следовало отказаться от всего этого и не участвовать больше в этом балагане? Вернуться в прежнее состояние обычного пленного?
Со временем я уже стал забывать, каково это — быть вечно голодным. И вот теперь вернуться назад в рабочую бригаду и снова каждый день выходить на торфоразработки?
Чувство собственного достоинства запрещает приписывать другому человеку, каким бы плохим он ни был, неверные, отягчающие его положение высказывания!
Все это верно. Но разве после моего ухода перестанут составлять протоколы с высказываниями военнопленных?
Нет!
Тогда протокол будут вести такие личности, как Фридель Каубиш. Личности, которые не только не разбираются в других людях, но и, в сущности, не знают самих себя.
Нет, совершенно исключено, чтобы я отказался собирать высказывания военнопленных о политическом положении.
Ведь меня поставили на чрезвычайно важный, решающий участок большевистской системы.
Поэтому совершенно верным было мое решение оставаться на этом месте, которое мне никак нельзя было покидать.
После того как мы передавали дальше по инстанции сочиненные нами «высказывания знаменитых современников», мы не забывали сходить в бараки и поговорить с теми, кого мы якобы цитировали в своих протоколах.
— Ведь ты тоже придерживаешься мнения, что Советский Союз поступил правильно, взяв под свой контроль Кёнигсберг, который всегда был оплотом реакции?! — говорили мы какому-нибудь пленному, который давно заслуживал того, чтобы получить тепленькое местечко на кухне, где бы он мог несколько недель сытно поесть.
Мы уже не мучились угрызениями совести, когда сочиняли положительные высказывания, записывая всякую несусветную чушь.
— Почитай только в «Свободной Германии», какие «передовые» взгляды у пленных в других лагерях! — говорили мы с Куртом друг другу. — Мы ни в коем случае не можем позволить себе, чтобы в 41-м лагере число прогрессивных антифашистов было меньше!
Впрочем, Борисова в гораздо большей степени интересовали негативные высказывания пленных. Часто еще до дискуссии перед нами ставилась задача: «Двадцать процентов негативных высказываний!»
Таким образом, мы отделяли «агнцев от козлищ» или «овец от козлов» (Мф., 25: 31–33). — Ред.). Хороших мы называли антифашистами, а плохих — фашистами.
И когда мы выходили из своей каморки, которую Ганс распорядился отгородить в передней части барака для того, чтобы там можно было без помех работать, то мы улыбались с таким же мудрым видом, как сам Господь Бог.
Мы улыбались. Но мы должны были бы плакать.
С передней частью первого барака была связана тайна, в которую я сумел проникнуть далеко не сразу.
Из передней части барака одна дверь вела в отсек актива, а другая — в помещение, которое Борисов использовал для своих целей.
У Борисова имелось и много других помещений на территории лагеря. Например, у него была комнатка в амбулатории. А также во всех тех местах, куда постоянно входили и откуда выходили военнопленные. Так не бросалось в глаза, когда он встречался со своими осведомителями.
Помещение рядом с активом было для шпиков Борисова самым надежным местом. В передней части нашего первого барака имелось столько ходов и переходов, что это было похоже на лабиринт. Поэтому действительно было трудно определить, куда шел тот или иной военнопленный: в актив или на встречу к Борисову.
Глава 23
Мартин оказывается первым, кто начинает это дело.
— Я встретил в бараке одного приятеля, он только что прибыл из колхоза. Там с одной русской они практиковали спиритическое передвижение стола.
Поздно вечером мы сидим вокруг дубового стола в комнате Борисова, которая по вечерам всегда бывает свободна.
Мартин, который верит в то, что существует много удивительного между небом и землей.
Курт, который считает, что люди сами рады обманываться.
Я, который думает, что как это здорово быть вместе с ними.
Фридель Каубиш, который обнаружил эту комнату Борисова и предложил нам использовать ее для задуманного и который очень рад, что хоть раз мы доверились ему.
— Только смотрите, чтобы русский ничего не заметил! — предупреждает нас Ганс, заглядывая к нам в дверь. — Вы же знаете, что это запрещено.
А в качестве пятого человека здесь присутствует Генрих.
Мы положили руки на крышку стола.
Мы ждем, чтобы стол начал двигаться.
У Генриха кисти рук как у женщины. А его голова напоминает головы святых на иконе. «Приобретение Мартина!» — говорит Курт о Генрихе. Действительно, Мартин приложил немало усилий, чтобы привлечь Генриха в антифашистский актив. Дело в том, что Генрих католический священник. В конце концов, Борисов согласился с тем, что присутствие католического священника в антифашистском активе явится хорошей пропагандой терпимости Советского Союза. Пусть священник, как член актива, тоже сможет поесть досыта, решил Борисов. Вот так Генрих попал в актив и присоединился к лагерной буржуазии. И если в воскресенье утром у нас нет бани и не нужно идти за дровами, тогда Генрих надевает на шею свой крест и проводит богослужение.
Но сейчас Генрих сидит вместе с нами в комнате Борисова и ждет, когда тяжелый дубовый стол начнет двигаться.
— Так мы можем долго ждать! — говорит Курт.
Мартин молчит.
— Во всяком случае, я чувствую тянущую боль в руках! — к месту замечаю я.
Мы ждем еще целый час.
Наши пять пар рук с растопыренными пальцами образуют замкнутый круг. Эти руки настолько разные, что большую разницу трудно себе даже представить.
Вот нежные руки Генриха, священника.
Короткопалые, крепкие руки Курта, аудитора концернов и почитателя французских философов.
Вот лежат терпеливые руки Мартина, продавца книг.
А это мои натруженные руки с взбухшими жилами.
И наконец, этот Фридель со своими детскими ручонками школьника.
В столе что-то громко трещит.
— Сейчас явится призрак! — Фридель хочет тоже поучаствовать в нашей беседе.
«Мы ничего не упустим из виду!» — думаю я. И когда я, как бы со стороны, вижу нас пятерых, таких разных, собравшихся в ночной час — полушутя-полусерьезно — вокруг стола, то мне кажется, что от каждого из нас исходят таинственные волны. Эти волны сталкиваются друг с другом, разделяются, объединяются и затухают.
Кто сделал предателем и убийцей этого Фриделя, этого сосунка с лицом профессора?
На его совести человек с семью языками, которого Борисов никогда больше не выпустит из своих кровавых рук, даже если все тело несчастного раздуется так же, как его распухшие ноги.
У любого человека есть право на спасение. Или ты, или я — так ставится здесь вопрос.
Между прочим, стол явно движется. Никто из нас не может подталкивать стол коленом. Курт убеждается в этом. Стол повернулся более чем на сорок градусов.
На следующий вечер к нам присоединяется и Ганс. Целый день мы с нетерпением ждем, когда же наступит вечер.
С одной стороны стол, несомненно, поднимается. Как минимум на тридцать сантиметров. Мартин вопрошает своим поставленным голосом, словно читает доклад о докторе Фаусте:
— Если ты хочешь поговорить с нами, стукни три раза!
Раздается троекратный стук.
— Ты готов отвечать нам, используя следующий алфавит для перестукивания: А — один стук, Б — два стука, В — три стука, Г — четыре стука. И так далее. Если ты готов, тогда стукни два раза.
Раздается двукратный стук.
Даже Курт заинтересовался. Задаются, в частности, такие вопросы:
— Поедут ли сидящие за этим столом домой уже в этом году? Если да, один стук! Если нет, то два стука!
Раздается несколько стуков. Тогда нам приходится задавать вопрос для каждого по отдельности.
Таким образом, выясняется, что я должен поехать домой в ноябре 1945 года.
— Жив ли еще Гитлер, или, как было уже объявлено, он мертв?
Ганс кивает в сторону Каубиша. Нам следует опустить политические вопросы, пока доносчик сидит вместе с нами за этим столом.