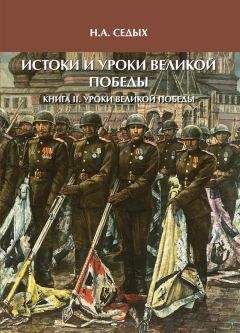Павел Ермаков - Все. что могли
Не отдать ли обер-лейтенанта под военный суд? Или, на худой конец, в гестапо? Мнилось, мысль стоящая, результаты ее осуществления многообещающи. В гестапо обер-лейтенанта выпотрошат, как цыпленка. Все выдаст и потом исчезнет, будто его и не существовало. Но тут же перед этим замыслом возникло препятствие. Тень падет прежде всего на самого Стронге. Наместник распустил вожжи, в его аппарате нет порядка. Подчиненные офицеры утаивают ценности от рейха. Все пойдет в казну. Еще хуже, завладеют ими шустрые и ловкие дельцы, которые и без того крепко греют руки на имуществе при реквизициях в оккупированной зоне. Стронге останется с носом. Те же дельцы захихикают: дурак этот Стронге, хотя и наместник фюрера. Простофиля, если такой куш упустил.
Думы отяжелели, булыжниками заворочались в голове. Нет, он поступит иначе. Через пройдоху Геллерта обложит обер-лейтенанта, как волка в лесу, поставит надежные капканы. В какой-то из них тот попадет.
* * *У дверей квартиры Богайца ожидал пан Затуляк, среднего роста, белобрысый, с кирпичным румянцем на щеках. Довольно невзрачный внешне человек. Но таким он был для тех, кто его толком не знал. Богаец был связан с ним крепкой веревочкой и основательно изучил его лисьи повадки и бульдожью хватку. Пан Затуляк — он просил называть его непременно так. Не по имени-отчеству, а «пан» с добавлением фамилии. Очевидно, очень хотелось ему поравняться с Богайцом, возможно, кое с кем и повыше.
При виде Затуляка у Богайца неприятно екнуло сердце. Мгновенно промелькнуло в голове все, что связывало его с этим человеком. Если бы не он, неприметный в прошлом завхоз городского музея, не видать бы обер-лейтенанту своих богатств, как собственных ушей. Впрочем, пока он антиквариата своего и не видел, лишь получил полную опись ценностей, когда-то увезенных из особняка и хранившихся в музее. Побывал на месте, где они упрятаны.
Еще до отправки на фронт под Москву, в которую он намеревался войти победителем и наивно тешил себя несбыточной славой, случай свел его с Затуляком. Тот явился в управу наниматься на работу. Позднее Богаец понял, что искал он не столько работу, сколько нащупывал подходы к нему. В управу он был принят и вскоре показал такое усердие, что стал непременным участником всех акций, проводимых немцами. Когда хватали людей для отправки в Германию, забирали по деревням зерно и скот, нащупывали след подпольщиков в городе — везде в числе самых пронырливых, хитрых и безжалостных оказывался Затуляк. Он обладал звериным чутьем и безошибочно находил, где мужик припрятал мешки с зерном, куда увел бычка, у кого скрывается на время облавы семнадцатилетняя девка — дочь хозяина. Если требовалось кого-то выпороть, отвести в ближайший овраг или в перелесок, первым вызывался Затуляк. Богаец подметил, при возвращении из оврага глаза его стекленели, от взгляда веяло могильным холодом.
После того, как Затуляк вошел к немцам в доверие, он и объяснился с Богайцом. Раньше, до прихода Советов, он владел большой мельницей-крупорушкой, вел торговлю.
— Москали все позабиралы. Мать их… — скрипнул он зубами, проведя тяжелым, мутным взглядом по Богайцу, тряхнул кулаком. — Я припомню… я ще отыграюсь.
Он не убежал на запад, ибо не имел таких капиталов, как Богайцы. Притаился в губернском городе, в скромной должности завхоза музея.
— Там добра — за много веков накопилось. Иной король во сне того не бачив.
Во время рассказа глаза Затуляка преобразились: вспыхнули алчным огнем, по широкому щекастому лицу заходили кирпичного цвета пятна. В музей привезли имущество пана Казимира. Но за полтора года до начала войны так и не собрались выставить его для обозрения. Все колдовали над ним, приезжали представители из Киева и Москвы, рассматривали. Затуляк, как завхоз, тоже видел его. От иных изделий глаз не оторвать, не верилось, что руки человеческие могли сотворить такое.
Когда возмездие пришло, комиссарики засуетились, не бросать же такое богатство. В одночасье собрали, запаковали, на автомашины погрузили. На последнем грузовике со всеми документами ехал Затуляк. На окраине города, откуда ни возьмись, немецкие танки. Большинство автомашин проскочило, а последние три, на которых и было имущество пана Казимира, Затуляк загнал в глухой тупик. На счастье там оказался просторный сухой подвал, туда он со своими людьми перенес груз. В дом в тот же день попала бомба, и вход в подвал крепко-накрепко завалило.
— Те люди… они не растащили? — похолодев, спросил Богаец, почему-то сразу поверив Затуляку, страшно обрадовался, что ценности обнаружились и понял, с какой целью этот человек вышел на него.
— Ни, пан Богаець, — мотнул головой Затуляк. — Инших уже немае, — при этих словах глаза его заледенели, — а други смовчат. Им тильки карбованцив побильше.
— Сами не воспользовались? — неожиданно для себя спросил Богаец.
— Ни боже мой. Пан Казимир меня лично знал. Та ий от нимцив сховать было треба, распознали б, не сносить мне головы.
Хитер и осторожен оказался Затуляк. Действительно, дознайся немцы, не было бы имущества, убрали бы и Затуляка. Свидетель им ни к чему.
Осенью первая пороша пала, тайком пробрались к хранилищу. Заброшенность и запустение тут виделись во всем. Подумалось, не водит ли его за нос Затуляк? Как бы догадавшись о его мыслях, бывший владелец мельницы заверил:
— Не извольте беспокоиться. Головой ручаюсь. Надеюсь на вознаграждение пана Казимира.
— Теперь я хозяин поместья и земли.
— Так ще лучшее. И я хочу обратно быть хазяином, свою землицу иметь. Я вам ваше имущество сберег, вы мне за это землицы сто десятин положите. И чтоб документик о том по всей форме.
Кровь бросилась в голову Богайцу. Рука непроизвольно потянулась к кобуре. Хлопнуть негодяя — и делу конец.
— Зря это, пан Богаець. Я ще вам пригожусь, — не испугавшись, не двинувшись с места, тихо проговорил Затуляк.
Минуту-две молчал Богаец. Успокоившись, решил: не много просит мельник, сущий пустяк. Что для Богайца сотня десятин где-нибудь на отшибе от своей усадьбы? Пообещал столь же тихо:
— Думаю, поладим.
Почти целый год пан Затуляк не напоминал о себе. Сегодня явился какой-то взъерошенный. Неужто кто добрался до хранилища, запустил руки туда?
14
У немцев затявкали минометы. В закатных лучах упавшего к горизонту солнца заклубилась багровая пыль, над выгоревшей степью завизжали осколки, глухо застучали тяжелые комья земли.
«Неужели опять атака? — тоскливо подумала Надя, машинально ощупывая на боку санитарную сумку. — Которая по счету? Пятая, шестая?»
Она рано утром пришла в роту капитана Силаева и пробыла тут весь день. Много было погибших. А сколько раненых! Перевязывала, вместе с санитарами переносила в блиндаж, где им лежать до темноты, когда можно будет вывезти их и переправить на левую сторону Волги, в госпиталь. Ноги у нее от усталости подламывались, руки отказывали.
И вот опять рвались мины, так случалось перед каждой атакой. Выдержит ли она все это?
Опорный пункт роты Силаева, оседлав небольшую возвышенность, выступал дугой вперед. Надя слышала разговоры командиров о том, что немец с этим не смирится, будет долбить до тех пор, пока наши не отойдут.
— Моя рота им — бельмо в глазу, — задорно сверкал белыми зубами капитан Силаев, рослый, в ухарски сбитой набекрень пилотке. Он энергично рубил ладонью воздух. — Еще бы, отсюда видно дальше, обстрел лучше. Немец не дурак. Соображает. Будет из кожи лезть, чтобы сковырнуть нас. Мы не пустим, не отдадим выступ.
Вот уже несколько дней немец на метр не сдвинулся, хотя слева и справа роты опять подались ближе к Волге.
— Санитар! Где санитары?
Надя встрепенулась, кинулась на зов. В окопе скорчился боец. Он безвольно привалился спиной к стенке окопа, прижимал ладонь к правому боку. Сквозь пальцы сочилась кровь. Надя расстегнула на нем поясной ремень, завернула гимнастерку и нижнюю рубаху. Осколок глубоко распорол мякоть, задел нижнее ребро. Боль была адская, боец побледнел, на лбу высыпал зернистый пот.
— Держи рубаху, не опускай, — она проворно наложила на рану толстый марлевый тампон, начала бинтовать. — Ничего опасного нет, заживет. Знаю, больно, а ты потерпи.
Она никогда не ахала, не охала над ранеными, лишь скупо и сурово подбадривала. Перевязывала быстро, уверенно, почти по-мужски управлялась, если приходилось перевернуть или вытащить раненого в безопасное место. Это действовало на бойцов успокаивающе.
— Спасибо, доктор, — приободрился раненый, смахивая пот.
Бойцы и командиры называли ее по-разному. Одни сестрицей, другие доктором, усмотрев выглядывающие из-под пилотки седые пряди, а кто и дочкой. Это те, кто был уже в возрасте. Она откликалась на любое обращение, никогда никого не поправляла. Какая разница для раненого бойца, доктор она или сестра. Для него главным было, чтобы его поскорей и умело перевязали, вытащили из-под огня, поэтому она и рвалась на передовую, хотя военврач Зарецкий постоянно сдерживал.