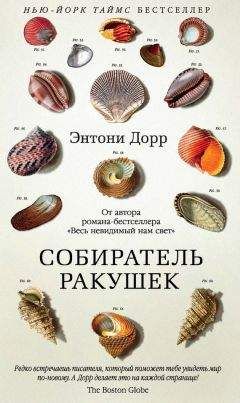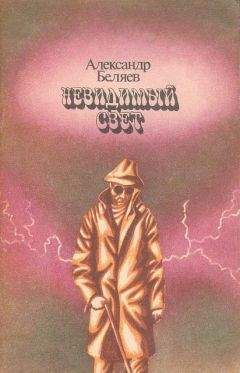Энтони Дорр - Весь невидимый нам свет
– Он вернется, – говорит мадам Манек не столько Мари-Лоре, сколько себе.
Однако на следующий день его по-прежнему нет. И на следующий тоже.
На очередную встречу клуба приходит лишь половина участниц.
– Они думают, что он нам помогал? – шепчет мадам Эбрар.
– А он нам помогал?
– Вроде бы он доставлял сообщения.
– Какие сообщения?
– Это становится слишком опасно.
Мадам Манек расхаживает по кухне. Мари-Лора почти физически ощущает жар ее отчаяния.
– Тогда уходите! – шипит она. – Уходите все!
– Ну зачем так? – говорит мадам Рюэль. – Мы просто сделаем перерыв на неделю или две. Подождем, пока все не успокоится.
Юбер Базен с его маской, с его мальчишеской живостью и запахом давленых насекомых изо рта. Куда, гадает Мари-Лора, немцы забирают арестованных? В «пансион», где держат папу? Почему оттуда пишут письма про замечательную еду и мифические деревья? Жена пекаря говорит, арестованных отправляют в лагеря, в горы. Нет, уверяет жена зеленщика, их везут на нейлоновые фабрики в Россию. Мари-Лоре представляется, что эти люди просто исчезают. Солдаты набрасывают мешок на голову тому, кого хотят убрать, пропускают через него электричество, и человека нет. Он перенесся в какой-то другой мир.
Город, думает Мари-Лора, медленно превращается в макет на шестом этаже. Улицы пустеют одна за другой. Всякий раз, выходя на улицу, она ощущает все окна над головой. Тишина беспокойная, неестественная. Наверное, так чувствует себя мышь, когда выглядывает из норки на луг и не знает, что за тени кружат высоко в небе.
Все отравлено
В столовой повесили шелковые полотнища с лозунгами. Они гласят:
Упасть – не позор. Позор – не встать.
Будьте стройны и поджары, быстры, как гончие, жестки, как дубленая кожа, тверды, как крупповская сталь.
Каждые несколько недель очередной преподаватель исчезает, засосанный машиной войны. Появляются новые – пожилые, пьющие. Все они какие-то увечные: кто-то хромает, кто-то слеп на один глаз, у кого-то лицо перекошено после апоплексического удара или после прошлой войны. Кадеты относятся к ним без уважения, преподаватели, в свой черед, быстро выходят из себя. Вернеру кажется, что вся школа – граната с выдернутой чекой.
Что-то странное происходит с электричеством. Оно выключается на пятнадцать минут, затем напряжение прыгает. Стрелки часов бегут быстрее, лампочки вспыхивают и лопаются, засыпая коридоры мягким дождем осколков. Наступают дни полной темноты: выключатели не работают, тока нет. В спальнях и душевых – холодрыга. Воспитатель приносит свечи. Весь бензин отправляют на фронт, все меньше машин въезжает в школьные ворота. Еду привозят в тележке, запряженной стареньким мулом; у него сквозь шкуру видны все ребра.
Уже не первый раз Вернер, разрезая сосиску на тарелке, видит там розовых извивающихся червяков. Форма у новых кадетов из жесткой дешевой ткани, хуже, чем у него. По мишеням больше не стреляют – нет патронов. Вернер почти ждет, что Бастиан начнет выдавать им палки и камни.
И тем не менее все новости – хорошие. «Мы на подступах к Кавказу, – сообщает радио Гауптмана, – мы захватили нефтяные месторождения, мы скоро возьмем Шпицберген. Мы продвигаемся стремительно. Пять тысяч семьсот русских убиты, потери с немецкой стороны – сорок пять человек».
Каждые шесть-семь дней те же двое бледных унтер-офицеров входят в столовую, и четыреста лиц сереют от усилий не повернуться в их сторону. Двигаются только глаза, только мысли, кадеты в уме отслеживают путь офицеров между столами, к очередному осиротевшему мальчику.
Кадет, за чьей спиной они останавливаются, изо всех сил делает вид, будто ничего не заметил. Он подносит вилку ко рту и жует. Тогда тот унтер-офицер, что повыше, кладет ему руку на плечо. Мальчик оборачивается с набитым ртом и вместе с унтер-офицерами выходит из столовой. Большие дубовые двери со скрипом закрываются, а все оставшиеся шумно выдыхают и возвращаются к жизни.
У Рейнхарта Вёльманна погиб отец. У Карла Вестергольцера погиб отец. У Мартина Буркхарда погиб отец, и Мартин – в тот же день, когда унтер-офицер тронул его за плечо, – говорит всем, что счастлив. «Разве не все когда-нибудь умрут? – восклицает он. – И разве не каждый мечтает погибнуть в бою? Вымостить собой дорогу к победе?» Вернер тщетно ищет сомнение в его глазах.
Самого Вернера сомнения мучат беспрестанно. Расовая чистота, политическая чистота – Бастиан постоянно обличает всякое разложение, но разве (думает Вернер в ночи) жизнь по своей сути – не разложение? Ребенок рождается, и мир начинает его менять. Что-то у него отнимает, что-то в него вкладывает. Каждый кусок пищи, каждая частица света, входящая в глаз, – тело не может быть вполне чистым. Но именно поэтому, настаивает комендант, рейх измеряет им носы, оценивает цвет волос по таблицам.
В замкнутой системе энтропия не уменьшается.
По ночам Вернер смотрит на койку Фредерика: на тонкие доски и грязный матрас. Теперь там спит уже другой новенький. Дитер Фердинанд, маленький мускулистый паренек из Франкфурта, выполняющий все, что требуют, с пугающим остервенением.
Кто-то кашляет, кто-то стонет во сне. Далеко за озерами одиноко гудит поезд. Поезда идут на восток, всегда на восток, за холмы, на широкий истоптанный простор фронта. Они идут даже тогда, когда Вернер спит. Стуча, проезжают катапульты истории.
Вернер зашнуровывает ботинки, поет песни и марширует, не столько по принуждению, сколько по застарелой привычке к исполнительности. Бастиан идет вдоль сидящих за столами кадетов:
– Что хуже смерти, ребята?
Поднимает какого-то бедолагу.
– Трусость! – отвечает тот.
– Трусость, – соглашается Бастиан, и мальчишка садится, а комендант идет дальше, довольный, кивая самому себе.
В последнее время он все проникновеннее говорит о фюрере и о том, что фюреру нужно: молитвы, нефть, верность. Фюреру нужны стойкость, электричество, кожа для сапог. Приближаясь к шестнадцатому дню рождения, Вернер все отчетливее понимает, что на самом деле фюреру нужны мальчики. Они длинными колоннами шагают к конвейеру. Отдай фюреру сливки, сон, алюминий. Отдай отцов Рейнхарта Вёльманна, Карла Вестергольцера и Мартина Буркхарда.
В марте сорок второго доктор Гауптман вызывает Вернера к себе в кабинет. Пол заставлен недоуложенными ящиками. Гончих не видать. Маленький учитель расхаживает из угла в угол и не замечает Вернера, пока тот не подает голос. Вид у Гауптмана такой, будто его медленно куда-то засасывает, а он ничего поделать не может.
– Меня вызвали в Берлин. Хотят, чтобы я продолжил работу там.
Гауптман берет с полки песочные часы и ставит в ящик. Пальцы с аккуратными ногтями повисают в воздухе.
– Все будет, как вы мечтали, герр доктор. Лучшее оборудование, лучшие умы.
– Свободны, – говорит доктор Гауптман.
Вернер выходит в коридор. За окном на заснеженном плацу тридцать первогодков бегут на месте, выпуская короткоживущие облачка морозного пара. Толстомордый отвратительный Бастиан что-то орет. Поднимает короткую руку – мальчишки поворачиваются на каблуках, вскидывают винтовки над головой и бегут на месте еще быстрее, сверкая голыми коленками в лунном свете.
Посетители
В доме номер четыре по улице Воборель звенит электрический звонок. Этьен Леблан, мадам Манек и Мари-Лора разом перестают жевать. Каждый думает: «Меня разоблачили». Передатчик на чердаке, женщины в кухне, сотня походов к океану.
– Вы кого-нибудь ждете? – спрашивает Этьен.
– Никого, – отвечает мадам Манек.
Женщины вошли бы через кухонную дверь.
Все трое идут в прихожую. Мадам открывает дверь.
Французские полицейские, двое. Объясняют, что прибыли по просьбе Парижского музея естествознания. От скрипа их каблуков по доскам прихожей только что не вылетают стекла. Первый что-то жует – яблоко, решает Мари-Лора. От второго пахнет кремом для бритья. И жареным мясом. Как будто они только что обжирались.
Все пятеро – Этьен, Мари-Лора, мадам Манек и полицейские – сидят на кухне за квадратным столом. От овощного рагу полицейские отказались. Первый прочищает горло.
– Справедливо или нет, – начинает он, – его осудили за кражу и участие в преступном сговоре.
– Все заключенные, политические и уголовные, – говорит второй, – направляются на принудительные работы, даже если не приговорены к ним.
– Музей разослал письма всем начальникам тюрем в Германии.
– Мы до сих пор не знаем, в какой он тюрьме.
– Мы предполагаем, что в Брайтенау.
– Мы уверены, что настоящего суда не было.