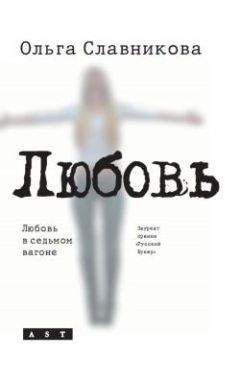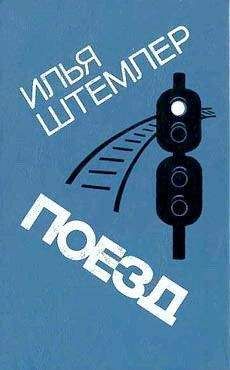Милош Крно - Лавина
Нет, выхода явно нет. Приесол советовал ему уйти в. горы, но ведь он уже в возрасте, разве он выдержит там в снегу? Не спасет ни себя, ни семью.
Издалека донесся бой башенных часов. Нотариус считал про себя: раз, два, три… Он насчитал одиннадцать ударов. Так, ему остается еще двенадцать часов, а потом он должен предстать перед майором, если только до той поры его не арестует гестапо.
Он вздрогнул от ужаса при мысли о допросах. Нет! Совершенно очевидно, что все пути отрезаны, выхода нет, нет.
Что же это делается? Мысли его путаются, он ни на чем не может сосредоточиться. Завтрашний день представлялся ему черным пятном. Оно приближалось, росло. Но как только он пытался представить себе, что будет завтра, какая-то внутренняя сила разрушала все его представления.
Он все острее ощущал, что завтрашнего дня для него не будет. Кровь начала пульсировать в его висках, удары делались все сильнее и сильнее. Он был как бы в беспамятстве. Зрачки его расширились, взгляд блуждал по канцелярии. Все казалось ему покрытым туманом.
В углу за письменным столом лежала проволока от старой телефонной проводки, похожая на длинную, тонкую змею. Он уже ни о чем не думал. Механически встал со стула, открыл внутреннюю раму окна, обмотал проволоку вокруг решетки и трясущимися руками сделал на ней петлю. Потом перенес стул под окно, встал на него коленями, надел петлю на шею и, опустив руки вдоль тела, оттолкнул ногой стул…
Была уже полночь, а в столовой у Газдика царило веселье. Все пили за победы немецкой армии, а декан, которому вино ударило в голову, попросил в своем тосте всевышнего, чтобы тот хранил рейх.
Фон Биндер вспомнил вдруг о нотариусе. С трудом удерживаясь на ногах, он со смехом закричал:
— Господа, я предлагаю выпить за здоровье нашего нотариуса, который наверняка уже закончил составление списка!
8
Милка Пучикова не очень испугалась, когда утром в сочельник немецкий солдат отвел ее из компосесората в комендатуру. За последнюю неделю гестапо схватило многих людей, особенно с кожевенной фабрики и лесопилки. Говорили, что они находятся под арестом в Ружомбероке. В числе первых схватили старого Приесола, через два дня — Пашко, а позавчера и доктора Главача. Нотариус Шлоссер повесился.
Милка удивилась, что ее не бросили в грузовик, который должен был отвезти шестерых человек, прятавших у себя раненых партизан, а под конвоем доставили в канцелярию.
В комнате звучал голос старшего лейтенанта Шульце, который кружил вокруг стола, небрежно засунув руки в карманы. У окна стоял Линцени. Он весь трясся от страха и что-то объяснял на ломаном немецком языке, чего девушка не понимала.
Когда солдат ввел Милку и назвал ее фамилию, старший лейтенант понизил голос и осмотрел девушку с головы до пят. Кончиком языка он облизал узкие губы, зажег сигарету и начал задавать вопросы Блашковичу, который непрерывно вытирал лоб платком и время от времени что-то шептал Ондрейке.
Старший лейтенант начал что-то говорить переводчице, которая безуспешно пыталась поймать его взгляд. Она выпятила свои полные губы, прищурила глаза, и выражение ее бледного лица стало строгим.
Обернувшись к Милке, она сказала:
— Пан старший лейтенант спрашивает вас, знаете ли вы о том, что компосесорат имел связь с лесными сторожками?
Значит, они догадались о телефоне! Кто-то, наверно, выдал. Но знают ли они, что это она звонила партизанам?
Милка хотела было дать заранее продуманный, ответ, но в разговор вмешался Линцени:
— Конечно же она знает об этом.
— Вы использовали этот телефон? — повторила переводчица вопрос Шульце на ломаном словацком языке.
Милка слегка улыбнулась и ответила наивным тоном:
— Конечно, почти каждый день…
Старший лейтенант прервал ее:
— Was, was sagt sie? [36]
Переводчица перестала изучать свои ногти и ласково взглянула на Шульце. Тот, однако, избежал встречи с ее взглядом и уставился на Милку. Переводчица сказала ему что-то по-немецки.
— Ach so [37], — ухмыльнулся он, но Милка быстро добавила:
— Это было еще перед восстанием, а после него я не звонила. Как-то раз я позвонила в сторожку «На холме», мы ведь подруги с женой лесника, но какой-то мужик обругал меня по телефону. — Она надула губы, как обиженный ребенок, и едва слышно проговорила: — А я ведь не терплю, когда мне грубят.
Старший лейтенант кивал головой, и Милке показалось, что он ей верит. Ее спросили еще, не пользовался ли телефоном кто-нибудь другой. Она сделала вид, что думает, вспоминает, а потом таким же наивным тоном ответила, что никто не пользовался, а вот до восстания обычно звонили.
Ондрейка пообещал старшему лейтенанту, что пойдет с солдатами, чтобы перерезать линию, которая ведет в долину, а Линцени снова принялся оправдываться: ему как председателю компосесората никто не сказал, чтобы он заявил в комендатуру, что компосесорат имеет телефон.
Старший лейтенант объявил, что все могут быть свободны, и, еще раз внимательно осмотрев Милку, занялся какими-то бумагами, разложенными на столе.
Когда они уже спускались по лестнице, лицо Милки прояснилось. Легкая улыбка выдавала охватившую ее радость. Она выпуталась, обманула их!
Она шла, высоко подняв голову, как бы желая показать часовому у дверей, что она перехитрила их комендатуру. Она радовалась тому, что снова на свободе, и была довольна, что не попалась на их удочку.
Над лестницей вдоль стены шли провода. Это напомнило ей, что немцы хотят прервать телефонную связь с лесом. Что делать?
— А вы и в самом деле не звонили? — прервал ее мысли Линцени.
— Да зачем мне, пан председатель? — ответила она спокойным тоном, но ей пришлось сдержать себя, чтобы не крикнуть: «Какие вы все глупые!»
На улице она осталась одна. Интересно, что в этом же самом здании ее допрашивали уже второй раз. Первый раз — когда она была еще ребенком. В тот раз ее схватили четники, когда она собирала пожертвования для Испании, а теперь — гитлеровцы. А смотрят они на человека одинаково враждебно.
Но что ей предпринять? С этим телефоном дело обстоит серьезно. Был бы здесь дядя Приесол, она обратилась бы к нему, но сейчас в Погорелой нет никого, с кем можно было бы посоветоваться.
Мимо нее прошаркал Ондрейка, немного отставший от Блашковича и Линцени. Навстречу ему семенила мелкими частыми шагами его жена Ондрейкова.
— Где ты шляешься? Когда наконец придешь домой? — набросилась она на мужа. — Ведь сегодня сочельник, ты что, разве забыл об этом? И что ты за человек!..
— Не ворчи, не ворчи, — пробормотал ей в ответ Ондрейка и пригладил рукавом длинные усы. — Да, пока я не забыл. Свари-ка побольше кофе нашему фельдфебелю и раздобудь какой-нибудь термосок, он просил меня. Утром они идут в лес…
Милка вздрогнула. Наверное, гитлеровцы собираются напасть на партизан и боятся, что ребята в лесу могут узнать об этом заранее. Скорее в компосесорат! Но что, если ее при этом поймают, ведь за цей, может быть, следят? Ну, будь что будет, она должна, должна… И Милка поспешила вниз по улице, но перед дверью компосесората уже стоял солдат с винтовкой на плече.
— Wohin? Wohin? [38] — закричал он и преградил ей дорогу.
Милка хотела было уйти, но потом, подумав, принялась объяснять ему, что там работает. Немец лишь пожал плечами.
— Ich verstehe nicht [39].
— Ферштейн, — заволновалась Милка, — я там работаю, тук-тук, — сделала она пальцами жест, как будто стучит на машинке, но немец был неумолим. Наверное, он уже получил приказ никого не пускать.
По тротуару шел какой-то младший унтер-офицер, и солдат вытянулся перед ним по стойке «смирно». Милка приветливо улыбнулась и начала жаловаться на то, что солдат не хочет пустить ее в канцелярию. Унтер-офицер что-то сказал солдату раздраженным голосом, ибо из Милкиных жестов понял, что она хочет войти внутрь. Он выпучил на нее темные глаза, сказал ей что-то, чего она не поняла, показал, что хотел бы с ней пройтись, взять ее под руку, но приказ есть приказ, часовой не имеет права ее пустить. Приказ сверху.
При последних словах он показал на небо и беспомощно пожал плечами. Милка не поняла, какая связь существует между прогулкой под ручку и небом, но поняла, что он не может ей помочь, а потому насмешливо ответила:
— Отстань, балда, раз от тебя нет толку.
Она постояла немного перед старым желтым зданием компосесората, надеясь, что все же проберется в канцелярию, и лишь увидев Ондрейку, идущего с тремя солдатами, поняла с болью в сердце: поздно, они уже идут. Она быстро повернулась и перешла на другую сторону улицы.
Что делать? Была бы жива мама! Милка пошла бы к ней, а сейчас у нее никого нет. А партизаны во что бы то ни стало должны еще сегодня ночью знать, что на них готовится нападение.