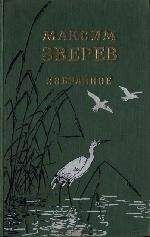Николай Анов - Гибель Светлейшего
— Боже мой, боже мой! — воскликнул он громко и насторожился, услыхав грохот отодвигаемой задвижки. Дверь на секунду приоткрылась, и в узкую щель Дукаревич увидел ночное звездное небо и человеческую фигуру. В вагон втиснулся Соломон Фрадкин. Он пробирался к своему тюфяку, как победитель, наступая в темноте на руки и на ноги арестованных. И по тому, с каким спокойным достоинством Фрадкин, достигнув цели, сказал: «Вот и я!» — Дукаревич понял, кто на допросе у коменданта одержал победу.
— Что вы скажете хорошего? — обрадованный Дукаревич сгорал от нетерпения. — Как к вам отнесся комендант?
— Комендант? Что теперь для Соломона Фрадкина комендант, если Соломон Фрадкин лечит самого матроса Нелепку!
Эти слова внесли в душу Дукаревича успокоение. Он словно почувствовал в своих руках ручку чемодана. Сердце его замерло от радости.
— Я вернулся сюда только ради вас. Что вы думаете, мне очень нужен этот тюфяк? Сегодня ночью Соломон Фрадкин будет спать на двухспальной кровати с никелированными шишками, под атласным голубым одеялом… А вы мне говорите про вшивый тюфяк…
— Я ничего вам не говорю, Фрадкин, — запротестовал Дукаревич.
— Хорошо! Через полчаса я отсюда уйду, а вас вызовут сегодня к коменданту. Вы говорите все в точности, как я научил вас. Но, кроме того, я еще приму меры… Будьте покойны, Соломон Фрадкин не такой, чтобы бросить человека в беде.
Его действительно очень скоро вызвали с вещами, и он, пожав Дукаревичу руку, покинул арестантский вагон.
Фрадкин сказал правду. К концу дня за Дукаревичем пришел конвоир и повел его в комендатуру. Комендант, усатый человек в бескозырке, сидел за деревянной перегородкой и перелистывал бумаги на столе.
— Этот, что ли? — спросил он курчавого толстяка, примостившегося на подоконнике, и кивнул на Дукаревича.
— Этот самый! — подтвердил толстяк.
«Соломон Фрадкин!» — чуть не закричал Дукаревич, узнав своего спасителя.
А Соломон Фрадкин соскочил с подоконника и подсел к комендантскому столу.
— Вы обещали товарищу Нелепко выдать пропуск гражданину Дукаревичу до Петрограда, — сказал он вкрадчивым голосом, пододвигая к коменданту записку.
— Помню! — сказал комендант и заполнил узкий листок.
— У вас мой чемодан, — нерешительно напомнил Дукаревич. — Большой, кожаный…
— Да-да, — засуетился Фрадкин, — товарищ Нелепко просил вернуть. Прочтите еще раз записку, товарищ комендант. Видите, он даже подчеркнул слово «чемодан». Обратите внимание.
— Пусть берет! — разрешил комендант и сердито вытолкнул ногой из-под стола чемодан. — Сколько из него можно было набоек сделать!
Дукаревич торопливо схватил чемодан. Фрадкин пожал коменданту руку. Они вышли на улицу.
— Не бегите так быстро. Опасности нет никакой. Завернем за угол…
В пустынном переулке они присели на узкую скамеечку возле глухого высокого забора.
— Вы видите, я сделал для вас все, что нужно, — ласково сказал Фрадкин. — Теперь вы можете дать мне половину, о которой мы договорились.
У Дукаревича началась одышка. Стиснув зубы, он открыл чемодан.
— Уверяю вас, если бы был обыск, они бы ничего не нашли! — восхитился Соломон Фрадкин, увидев потайное дно. — Это же восторг, а не чемодан! Что-то особенное! Мечта революции!
Он быстро проверил отсчитанные Дукаревичем деньги. Рассовывая их по карманам, посоветовал:
— Обязательно уезжайте сегодня ночным поездом. Билет я вам достану, а пропуск у вас есть.
— Хорошо!
Дукаревич уехал ночью. Фрадкин проводил его на вокзал и даже устроил в штабной вагон.
2
«Милый брат мой Казимир!
Накануне своего отъезда из Америки я получил твое письмо, в котором ты интересуешься судьбой брата твоего, не написавшего тебе за семь лет ни одной буквы. Я готов сгореть со стыда, если бы это была правда. Но, дорогой брат, я написал тебе в Лодзь, в Калиш, в Бобруйск, и не моя вина, если почта работает так плохо.
Это письмо я пишу тебе на пароходе «Ангелина», в каюте первого класса, со всеми удобствами, с футбольной площадкой и бассейном, где я могу принять участие в игре и купаться. Но так как ты не получал от меня никаких вестей, я думаю сейчас написать тебе подробно о моей судьбе.
Милый брат мой Казимир! Ты, конечно, знаешь, что в Америку я поехал вместе с Мошкой Кацманом, сыном нашего сапожника. Так вот, мы вполне благополучно добрались до самого Нью-Йорка и даже жили первые месяцы вдвоем. Наш земляк Юшинский, к которому Ян Яныч дал письмо, помог нам устроиться на швейную фабрику. Вот это, скажу тебе, фабрика! Подумай, Казимир, на фабрике две тысячи людей, а шьют они одну пиджачную тройку. Каждые полминуты из фабрики вылетает по готовенькому костюму, который уже выутюжен. Можешь надевать и идти в театр или вешать на вешалку. Так поставлено дело! Мастерская нашего варшавского портного Линевского в сравнении с фабрикой — это плюнуть и размазать. Это все равно, что казенный пруд, в котором мы ловили пескарей, и Атлантический океан, по которому я сейчас еду в каюте первого класса. Должен тебе сказать, что я семь месяцев работал на этой фабрике. Если бы ты знал, что я там делал! Я пришивал к брюкам левую пряжку, а Мошка Кацман обтачивал клапан заднего кармана. И только! Работа не тяжелая, но от нее у меня иногда мутнела голова, и мне казалось, что весь Нью-Йорк ходит в брюках, на которых я пришивал левую пряжку. Я буквально бежал с фабрики закрыв глаза.
Если бы я захотел тебе подробно описать, кем я работал после и что пережил — на это не хватило бы тридцати тетрадей. Я был рассыльным, чистильщиком сапог, газетчиком, уличным фотографом, гравером, чертежником, химиком, грузчиком и даже мозольным оператором! Вот сколько профессий успел переменить твой Осип!
Сейчас же, милый мой Казимир, я — филателист и компаньон Питера Мак-Доуэлла, с которым мы вместе имеем собственную контору. Помнишь, на Скобелевском проспекте была табачная лавка Сары Таубеншляк, где обменивали с доплатой старые перья на новые? Сара также продавала старые почтовые марки, которые у нее покупали гимназисты для наклейки в альбомы. Мы этого ремесла тогда не понимали, Казимир, потому что у нас под носом были сопли, а сейчас я в этом деле опытный человек. Филателия — это и есть собирание марок. Ты, быть может, скажешь с презрением: какой у меня брат дурак! — и даже пожалеешь, что я занимаюсь такими пустяками. На это я тебе отвечу: ты неправ! Почтовые марки — великая вещь! Это вовсе не пустяк, как тебе кажется. Подумай сам, только три человека в Америке могут обойтись без марок: это три вдовы президентов, которым по специальному закону разрешается заменить марку на конверте своей подписью. Даже сам президент Америки обязан покупать марки! Но если такое значение имеют марки обыкновенные, которые печатают в наши дни, то какой великий горизонт может иметь старинная марка?.. Мой компаньон Питер Мак-Доуэлл говорит: «Филателия — это золотая жила!»
Как же я наткнулся на эту золотую жилу, спросишь ты. Прежде всего я поступил сортировщиком марок в филателистическую контору и подбирал марки в пакетики (от 50 штук до 5000 в каждом) для рассылки их по всему миру. А после, Казимир, я стал ездить по разным городам и покупать редкие коллекции… Чтобы ты еще раз не подумал, что это дело пустяковое, могу сказать, что марки собирают не только мальчишки-гимназисты. Император Всероссийский Александр Третий, миллиардер Ротшильд, который живет в Вене, английский король, бельгийский король Альберт и целый ряд других великих людей занимались и занимаются, подобно мне, филателией.
Конечно, Сара Таубеншляк продавала гимназистам разный хлам, на копейку по две штуки и больше. А что ты подумаешь, Казимир, если я тебе скажу такую вещь: румынская марка выпуска 1858 года со штемпелем погашения, бумага верже, цвет черный с розовым, достоинством 27 рублей по каталогу Ивера стоит 35 тысяч франков! Как тебе это нравится? Ведь если бы такая марка попала тебе в руки, я уверен, ты сегодня же продал бы ее и купил трехэтажный дом. И ты смог бы прожить богачом до конца своей жизни! А вот еще: существует шестидесятисантимовая желтая доплатная марка выпуска 1871 года. Чистая такая марка стоит 375 франков, а со штемпелем — 4000 франков. Разница 3625 франков!
Ну, а если твой брат химик и гравер одновременно? Если он может превратить чистую марку в гашеную и наоборот? Что это может принести, Казимир? Но, между прочим, это очень трудная операция и очень опасная… Другое дело — ремонт марок. Мы при конторе открыли маленькую клинику, в которой лечим больные марки. Ты знаешь, иногда марка бывает разорвана, с дырой, запачканная… Если у тебя есть такая марка, которую можно только выбросить, пришли на пробу мне — и я тебе сделаю из нее конфетку. Она станет новенькой, словно из-под типографского станка. Ты ее не узнаешь.