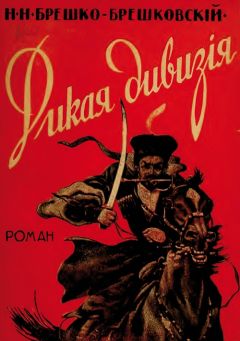В когтях германских шпионов - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
— Еще бы не странно… Рокамболевщина какая-то… Но я вам даю мое честное слово, что я произведу самое тщательное дознание… Вообще ваше дело, ваше досье, досье майора Ненадовича, увлекло меня, и я не успокоюсь до тех пор…
— А что, никаких известий от вашего сотрудника? — озабоченно спросил серб.
— Я-то хорош!.. Позабыл совсем… Имею от него две телеграммы: одну из Вильно, другую из Варшавы… Молодец, я вам доложу, этот Кегич! Вот сорвиголова… Пошлите вы его в самое чёртово пекло, он тряхнёт головою и спросит лишь одно: «А сколько вы мне дадите под эту командировку авансом?»
— Есть надежда?
— Есть! По чистой совести скажу — есть! Этот человек мало говорит, но много делает… Да вот, пожалуйста, ознакомьтесь сами…
Из бокового кармана визитки Борис Сергеевич вынул обе телеграммы и передал жадно схватившему их майору…
6. Накануне…
— Это была моя первая поездка в спальном вагоне международного общества. Все больше до сих пор пробавлялся заплёванным, затрапезным вторым классом. Да и то — на лучший конец… А здесь — фу-ты, нуты — какой комфорт! Зеркала, бархат, бронза и еще тисненая чертовщина какая-то, вроде выжигания, — на стенах! Словом, таким фанфароном еду — легче на поворотах!..
Не успел двинуться поезд, начал я за этим — как его там, Шварценбергом, или Шварценштейном — слежку. Я один в своём купе, и он один, у себя. Мы — соседи. Только между нами — уборная. «Лавабо» написано. И каждый в это самое «лавабо» может из своего купе войти, Ну, думаю, может быть, я тебя голубчика, через это самое «лавабо» подчекрыжу… И напала на меня к ночи такая, изволите видеть, чистоплотность, что я раз пять бегал руки мыть. Нажмешь для виду рычаг — хлынет вода. Сам же пробуешь к соседу милому дверь… Нет, плотно закрывает, анафема! И решил я: к чёрту «лавабо». Иначе необходимо действовать…
А время бежит… Вот и Вильно. Половина дороги, а я ни взад ни вперёд. Ни тпру ни ну ни кукареку… Гуляю себе по коридору. Вижу, сидит он у себя, немецкие журналы просматривает, ногти полирует… А на столике перед ним этот самый несессер туалетный, из крокодиловой кожи, который мне еще на вокзале Борис Сергеевич показал. «Там, — говорит, — по моим сведениям, интересующие нас документы». Ну, думаю, пойдёт эта гнилая австрийская спаржа в вагон-ресторан принимать пищу, авось чего-нибудь выдумаем. Не тут-то было… Пищу он принимать пошёл, это верно, а только проводнику велел свое купе на ключ запереть. Черт бы его на все куски разодрал… Ну, и так и этак, стал я мозгами ворочать… С отчаяния даже такая мысль пришла: хотел открыться во всем проводнику, сунуть ему четвертной в зубы, чтоб помог мне симулировать кражу. Я, мол, схвачу этот самый несессер и на какой-нибудь маленькой станции — поминай как звали! Но, увы, откинул эту мысль, как неосуществимую… Проводнику место дороже всякого четвертного билета, на такую комбинацию он не пойдёт. А еще, чего доброго, может меня продать с головой, и всю канитель испортить…
Креплюсь, думаю: терпи казак, атаманом будешь. И всячески отгоняю от себя другой вариант: терпи казак, казаком сдохнешь!..
Пофриштыкал себе господин фюрст Шварценштейн, и назад, в свою «купу». Для меня прямо муки Тантала… Дразнится проклятый несессер, покою не дает… Даже дикие мысли полезли в башку… Вбежать в «купу» эту самую, хватить белобрысую глисту по черепу, чтоб на часок-другой память отшибить, а сам за несессер — и драла, прямо на ходу, из вагона. Нет, ничего, кроме скандала, не выйдет… Публики много… Какие-то дамы торчат в коридоре, из своих телес живых баррикад настроили, сквозь такие живые заграждения не очень-то буйным ветром пронесешься…
Вот и Варшава…
Сердце мое, как овечий хвост, ёкает… До границы всего несколько часов осталось… Не успею ничего сделать, — адье, мон анж, я удаляюсь. Папенька с маменькой кланяться приказали! И вдруг, на мое счастье, услышала меня Царица Небесная… Разговор прошёл промеж сиятельной глистою и проводником. Я по части этого собачьего диалекта немецкого — швах… Но понял, что австриец сутки пробудет в Варшаве, и с вокзала — прямо в «Бристоль». Ну, думаю, Дмитрий Петрович, теперь как себе хотите, а документы вы должны получить, хотя бы вам за это пришлось в самого Фантомаса перекинуться… Черт его дери, кража так кража! Во имя такой благородной миссии, сам Бог велел… В «Бристоль» так в «Бристоль»! Подхватил это нас автомобиль гостиничный… Едем… Только двое: фюрст да я. Друг против друга сидим. Натурально, он не замечает меня. Я для него — пустое место… А я глаз не свожу с голубчика. Так бы, кажется, и придушил, как недоноска цыплячьего, да за несессер — хап! Погода — роскошь… Все так и горит кругом… Цветут каштаны… Этакие пикантные женщины… В первый раз настоящий европейский город увидел… Приезжаем! Фюрст себе номер, я — себе. Очутились мы в одном коридоре. Только в разных концах. Раскрыл я свой чемодан… Там — пусто, хоть шаром покати. Для фасону взял. Чемодан внушительный, приличный… Борису Сергеевичу спасибо, снабдил… Занялся фланерством — по коридору взад и вперёд маячу. Ждать пришлось час битый… Шварценштейн, изволите ли видеть, все это время туалетом занимался, красоту наводил… Вышел наконец этаким курортным щёголем одетый. В белых штанах, фланелевых… Крикнул горничную, чтоб порядок в номере сделала, а сам ушел. Горничная, полька этакая аккуратная, заглянула в номер. Там чего-то походила, потрогала и — назад, прежнюю уборку окончить в другом номере. Я оглянулся… Ни души в коридоре… Я к фюрсту, в гости, шмыг… Ага, вот он родненький, из крокодиловой кожи, в чехле, красуется! Попробовал замок… Не тут-то было… Закрыт… Я несессер за ушко, да на солнышко… и — к себе… Положил я его в чемодан… Звоню, требую счет: спешить надо, мол, телеграмму получил… Расплатился честь-честью и скорей, на извозчике, на питерский вокзал. Ждать поезда часа три пришлось. Лихорадка трясёт, нетерпение разбирает… Скорей заглянуть хочется в серёдку… Наконец я в вагоне… «Купу» отдельное нанял… Мне что, деньги редакционные жалеть нечего! Отпереть никак нельзя… Тут я, делать нечего, перочинным ножом всю эту крокодилову кожу искромсал, и документики все на Божий свет извлёк… Глазам не верю! От радости руки трясутся… Флаконов там — видимо-невидимо… Круглые серебряные пробки с флаконами… Все, какие были духи — на себя вылил… Кутить так кутить! На весь пятиалтынный. Из Вильно даю телеграмму… Возвращаюсь триумфатором и попадаю прямо в объятия Бориса Сергеевича, достойный помощник сего Пинкертона газеты «Четверть секунды». Могу себе представить адское бешенство одураченного князюленьки!..
В таких, или приблизительно в таких тонах, рассказал Кегич свои приключения майору Ненадовичу, сидя у него в комнате, вместе с Мирэ. Помощник редактора привёз к сербскому офицеру с документами заодно и похитителя оных. Ненадович был на седьмом небе от восторга и буквально душил в своих железных объятиях попеременно то Кегича, то Мирэ. Дмитрий Петрович выносил эти объятия довольно стоически. Что же касается нежного и деликатного Бориса Сергеевича, у него хрустели все косточки. Однако он находил в себе мужество улыбаться гуттаперчевыми губами своими, принимавшими какую-то четырехугольную форму…
Он гордился и своим пинкертоиовским нюхом, и своим помощником, как импрессарио артистом, вернувшимся из удачной, лаврами его покрывшей, гастроли. И ко всему этому Борис Сергеевич предвкушал бешеную сенсацию…
— Теперь можно писать вовсю! Не так ли, мой дорогой майор?.. Именно, теперь можно… Победителей не судят! А мы — победители! Воображаю, как вытянутся физиономии у всех там этих господ, на Сергиевской, начиная с посла и кончая его егерем с петушиными перьями… А самочувствие князя Шварценштейна? После такого скандала это сокровище, несомненно, переведут отсюда… Пойду, сейчас позвоню в редакцию… Завтрашний номер необходимо печатать самое меньшее в полуторном количестве… Розница будет бешеная! Я подам всю эту историю, даже не по-французски, а по-американски… Напечатаю три портрета рядом: Шверценштейна — у меня, кстати, он есть — Дмитрия Петровича, и нашего уважаемого майора… Вы разрешите мне к телефону, майор?..