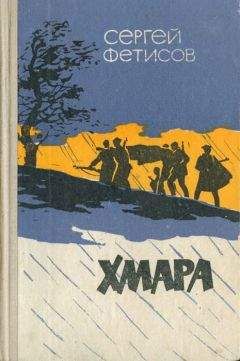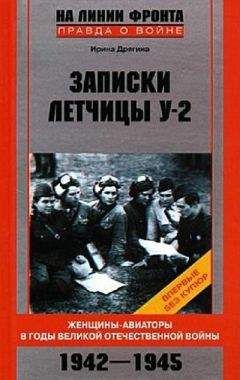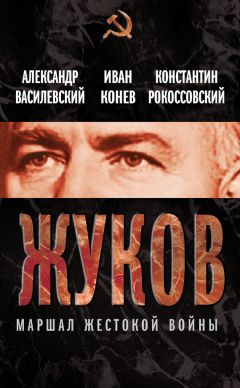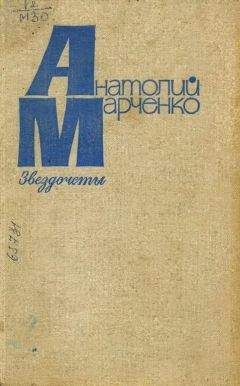Анатолий Трофимов - Угловая палата
— Ошибки не было. А вот вина… есть.
— Чья? Конкретно.
— Пальцем ни на кого не покажешь. Медицина виновата.
— Вон как… — построжел голос Прозорова. — Не по чьей-то вине, а по вине всей медицины?
— Не всей. Той отрасли, которая занимается и занималась анаэробной инфекцией. Научных публикаций вроде бы предостаточно, а что в них? Что почерпнуто из практики зимней кампании тридцать девятого? Что нового в диагностике, радикального в профилактике? Методы, рекомендации? Незамедлительное введение антибиотиков? Нашли-то его на второй день после ранения. В воронке, со слепыми осколочными обеих конечностей. Какое уж тут незамедлительное. Разрезы, ампутация? Сделали. Развитие заболевания, извините за банальность, никогда практически не бывает предсказуемо полностью. Как же локализовать скрытый процесс? О том, что он не затух и после отсечения, узнаем, когда… — Олег Павлович, шумно всосав воздух, оборвал себя: — Не помогла и экзартикуляция[17].
— М-мда-а, — подавленно покачал головой Прозоров. — Анаэробиоз… Что поделаешь, что поделаешь… Объяснительную все же представьте.
— Комиссия будет?
— Никаких комиссий, от них одна демагогия. Приложите к записке историю болезни. Лучшего не вижу — сжато и убедительно.
Прозоров направился к двери, похоже, только для того, чтобы выйти из кабинета вместе с Козыревым. Иного способа распрощаться на этой стадии разговора он не нашел, а продолжать его — только время отнимать у себя и начальника госпиталя.
* * *Времени на беседу с Прозоровым и специалистом-подполковником затрачено немного. Шофер на месте, машина заправлена. Солнце поднялось — выше некуда Небо безоблачно. Летят паутинки — бабье лето. Все хорошо. Но что-то неприятно сосет все же. Что? Аудиенция прошла с предельным взаимопониманием. Откуда же тогда это гнусное ощущение? Ах, вот откуда! Колючки твои обмякли за ненадобностью, противно липнут к телу.
Понятно: объясняться, выяснять отношения для тебя, Олег Павлович, — нож острый. Отсюда раздражающее ожидание всяких напастей. Дурное всегда от дурных Скверными стал представлять себе тех, к кому шел…
Успокоила медленно слепившаяся мысль: когда душе совестно — это знак, что ты еще человек, что не все потеряно…
— Товарищ майор медицинской службы! — заставил очнуться чей-то голос.
Козырев оборотился. Собирая на сапоги пыль с придорожной завядшей травы, к нему подбегал артиллерийский лейтенант. Стучит ему чем-то тяжелым в загорбок перекинутый обеими лямками через плечо наполовину заполненный вещевой мешок.
— Здравия желаю, товарищ майор медслужбы! — показывая запотевшую подмышку, лейтенант вскинул руку к пилотке. Под ухоженными юношескими усами обнажились в улыбке редкие зубы.
Недоумевая. Олег Павлович разгадывал причину радости парня и не мог разгадать.
— Не узнаете, товарищ майор? — стал тускнеть лейтенант.
Козырев действительно не узнавал. Кто-то из тех, кого оперировал, кто лежал в его госпитале? Разве память удержит тысячи лиц?
Лейтенант подбросил уточняющую деталь:
— Я к вам раненого начальника штаба артполка доставлял. Помните? И мне перевязку делали.
Наконец-то Козырев узнал, вернее, вспомнил того «шкарябнутого» в голову офицера, который привозил на «додже» майора Смыслова и потрясал запиской к Руфине Хайрулловне. Заверил его:
— Как не помнить, помню.
Появление сегодняшнего лейтенанта удобно прилегало к наладившемуся настроению Олега Павловича, это он почувствовал довольно быстро и решил воспользоваться выпавшим моментом.
— Да-да, офицера, которого лично знает командующий фронтом, привезли тогда именно вы.
Не все из прошлого приятно вспоминать. Лейтенант промямлил:
— Но это же… правда…
— Иная правда — хуже вранья. Ладно, забудем… Навестить хотите? Хотите спросить у меня, нет ли места в машине? Угадал? Как тут не угадать — мешок-то с гостинцами. Консервов набрали?
— Прихватил малость.
— Предусмотрительный. Хвалю. Отдельной палаты Смыслову не предоставили, особых медикаментов из Москвы не привозили, а вдобавок беднягу еще и голодом заморили. Хвалю, хвалю, лейтенант, — веселил себя Козырев.
— Товарищ майор медслужбы…
— Не майор, а подполковник медслужбы, — пряча усмешку, добивал его Олег Павлович.
Лейтенант потерянно скосился на его однозвездочные погоны.
— Не веришь? — изумился Олег Павлович. — Честное пионерское — подполковник. Могу выписку из приказа показать.
— Поздравляю с присвоением очередного звания, товарищ подполковник! — гаркнул лейтенант и раскованно засмеялся.
— Спасибо.
— А консервы у меня — ни одному госпиталю не снились. Найдется чем и звездочку вашу обмыть… В военторге девчонка знакомая оказалась. Бутылочку презентовала, скажу я вам., — лейтенант чмокнул кончики сложенных щепотью пальцев.
С такими адъютантами, если не хочешь, чтобы они уселись тебе на спину с погонялкой, ухо надо держать востро.
Козырев, пытаясь несколько придержать бесцеремонность лейтенанта, распахнул дверцу машины:
— В таком случае… Вот сюда-с, рядом с водителем… Обратно как изволите? Если мой «виллис» понадобится, — уступлю, уступлю…
Не увидев умысла, лейтенант с небрежным «Не-е, не понадобится» развалился на сиденье, не оборачиваясь, добавил:
— Я с Сакко Елизаровичем, с замом по строевой. Управится в артмастерских — в госпиталь прикатит. Он сейчас в двух ипостасях — и зам, и начальник штаба. Что-то заколодило у него без майора Смыслова.
По дороге прихватили Мингали Валиевича. По лицу видно было, что и он не попал под грозовые раскаты. Валиев бросил на сиденье связку газет и писем, отдуваясь, сел и тут же потянул из кармана заранее отложенный треугольник — письмо из дому. Уловив скошенный на почту взгляд Олега Павловича, бросил коротко: «Тебе нет ничего» — и стал растеребливать, расправлять тетрадные листки треугольника. Козырев приготовился услышать что-нибудь хорошее из чужих новостей.
— Вслух читать? — спросил Валиев.
— Если нет секретов, читай.
«Атием багрем, син кайда?» — вспоминая певучий голос сына, начал было Валиев и тотчас замолчал. Стерлась улыбка, исказилось, как от боли, лицо. Мингали Валиевич откинул голову на спинку сиденья, прижал письмо к полыхнувшему лбу.
— Яныкаем[18]…
— Что случилось, Мингали Валиевич? — обеспокоился Козырев.
— Какой же я… Дождался… — Валиев дальнозорко нацелил глаза на письмо, с сердечной болью перевел прочитанную фразу: «Отец родной, где ты?»… Забыл уже, когда и писал им… О, как нехорошо…
Глава двадцать шестая
На пятидесяти квадратных метрах комсоставской палаты с четырьмя кроватями было гулко, как в церкви. К предстоящей передислокации в мама их знает какие края Мингали Валиевич готовился без всяких скидок на известную условность. Кровати и тумбочки, упакованные в решетчатые ящики и укрытые брезентом (в первых числах октября то и дело шли дожди), громоздились теперь возле водокачки. Повизгивал пилой и стучал молотком плотник — готовил тару для другой утвари.
Четверых, оставшихся в угловой палате, непогода чаще держала в помещении. Неприютно, скучно, зевотно…
— Петр Ануфриевич, — обращается Боря Басаргин к майору Щатенко, — вы так вот всю жизнь — военный?
Петр Ануфриевич закрыл книгу, оставив в ней палец вместо закладки, хрустко, со вкусом потянулся. Читать ему надоело, и он не прочь поболтать. Отозвался:
— Всю жизнь, Борька. Счастливые люди в рубашках родятся, а меня вот в сапогах и гимнастерке на свет произвели. Поп, когда крестил, хотел и отпеть заодно, поскольку, говорит, служивый — ему так и так убиту быть.
— А если без этого, как его…
— Без глупостей? Без глупостей, Борька, всю жизнь я не мог быть военным. Тридцать три года — не вся жизнь. Если и убьют сегодня или завтра, все равно — не вся. Двадцать три из этой жизни взяли школа да институт.
— Десять лет — тоже немало.
— Много, Борька. Если учесть, что в училище всего два года, а остальное время на войне, то очень много. С басмачами на границе, летом тридцать девятого — Халхин-Гол, зимой того же года — на финской. Только подлечился после ранения — эта война началась. Два раза под пули попадал, а на третий раз вон какую железину в меня всадили, — Петр Ануфриевич дотянулся до тумбочки, постучал похожим на морскую раковину осколком.
— В институте вы на кого выучились, товарищ майор?
— Ни на кого не выучился, Борька. Болтался, как цветок в проруби. Поступил на физико-математический, через полгода в историки подался, потом журналистикой увлекся, а после третьего курса совсем с институтом расстался. Решил писателем стать. Накатал роман страниц на семьсот, отнес в издательство. Жду, когда перевод на тыщи рублей придет. Пришла открытка: прочитали, приходите. Стали мне про Пушкина, про Толстого говорить, а когда про Гоголя помянули, я сгреб свою рукопись и спрашиваю: «Где тут у вас печка? Хочу на Гоголя походить». С тех пор мечту о романах забросил, а рассказы и сейчас пишу.