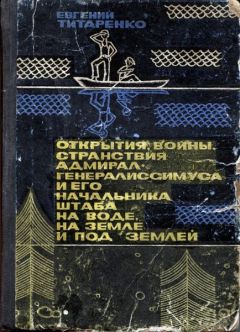Валерий Поволяев - Русская рулетка
— Даже к убийству царей?
— Бомба, которой убили Александра Второго, была изготовлена в Кронштадте. Лейтенантом Сухановым.
— Человек благородный, видать. Без дурных кровей.
— Может быть, и человек благородных кровей. Он был казнён. На казнь собрали весь гарнизон, а после казни гарнизон строем прошёл по могиле, и могилы не стало.
— Разве так можно? — Маша опять побледнела. Бледность ей шла. — Не иметь могилы! Это не по-российски.
— В Кронштадте всё можно. За это я его и люблю.
— Серьёзный город!
— В гербе у него — маяк и перевёрнутый котёл. Когда моряки Петра Первого ступили на Котлин — это остров такой, — там сидели мужественные шведские матросы и лопали из котла кашу с салом. Увидев русских, испугались и удрали. Кашу доели уже наши моряки. Теперь герба, я думаю, не будет. Времена другие.
— А в Кронштадте любят собак?
— Нет.
— Почему же? Милые бездомные существа.
— Бездомных собак в Кронштадте нет — только домашние да корабельные. Главной домашней собакой в Кронштадте был адмирал Вирен, комендант, ни дна ему, ни покрышки, извините меня, барышня.
— Да не зовите вы меня так! Из немцев?
— А лях его знает! Наверное, немец: уж очень он лют был, Вирен, ох лю-ют, — Сорока покачал головой. — Шкура, — произнёс и спохватился: он же не на матросском собрании находится, а у барышни в гостях. Пробормотал сконфуженно: — Извините, пожалуйста. Это всё неинтересно!
— Интересно, почему же! — Маша, протестуя, подняла ладонь.
Она была хороша, служанка Таганцева, и Сорока ощущал, что размякает, будто конфета в тепле, рождается в нём что-то печальное и сладкое одновременно. Была бы его воля — он сидел бы на этой кухне сутками. И не надо никакого чая.
Краем уха он засекал все звуки, все скрипы и вздохи огромной квартиры, слушал, а не раздадутся ли в прихожей шаги?
Как всё-таки сильна в человеке память, как перекручивает его, заставляет маяться и болеть, радоваться и ощущать себя счастливым. А всё невесть откуда! То ли из воздуха, то ли из тепла, рождающегося по-над сердцем, то ли из тока крови, то ли из дыхания. Ну почему человек печалится? Почему сам он, Сергей Сорока, всё повидавший и всё испытавший, распускает слюни, размазывает их, размякает, рассказывая о Кронштадте, хотя должен рассказывать совсем о другом.
Он боялся Кронштадта до того, как в него попал. Думал, что это угрюмый чёрный город, пожирающий людей: ведь столько слёз, столько проклятий, столько костей и жизней лежат на нём! А Кронштадт оказался светлым и мирным, совсем невоенным городком, вполне благополучным и добрым, если только не считать ситцевых и бархатных тротуаров, табличек у парков «Нижним чинам и собакам вход воспрещён», розг и гауптвахты Вирена и кулаков местных полицейских.
— О чём вы думаете? — спросила Маша, и Сорока сконфузился: чего же это он умолк?
— О собаках. Породы разные: лайки, терьеры, спаниели, дворняги — полно их, на людей не похожи, а имеют слишком много общего с людьми. Откуда это? Не знаю. Вирен был пёс облезлый, но дюже злой, — лай сиплый, со слюной, когда лаял, то захлёбывался. Жена у него тоже была собака, нашего брата моряка не считала за человека. Прозвище у неё было Кича. Премерзкая была баба, под стать своему кобелю. В семнадцатом матросы подняли Вирена на штыки. Ночью пришли домой. Кича трясётся, вся спесь из неё вытекла, дочки ревут, а Вирена нет. Нашли в туалете, там он прятался. В исподнем. Одна дочка у него храбрая оказалась, пошла на матросов. «Не троньте моего папаню, — закричала, — он у нас хороший». Матросы на это общим рыданием ответили — какой же он хороший?
— А он действительно… — Маша внутренне содрогнулась, это Сорока заметил по её глазам, — он…
— Он был настоящим зверем. Это больше, чем собака. Собака хоть и лает, но не всегда кусает, а этот кусал всегда. Столько нашего брата-матроса запорол — у-у-у, — руки у Вирена не то чтобы по локоть — по самое плечо в крови.
— Отчего такие дворяне разные: одни убивают царей, других за царя поднимают на штыки?
— Наверное, потому, что и боги, как и пророки, — нам не указ, — сказал Сорока и сам себя похвалил — хорошо выразился! — Их не мы родили, их нам дали сверху. А то, что сверху, подвергается ревизии. Но, побывав в разных странах, — Сорока не удержался, отвёл глаза в сторону и крякнул в кулак, — скажу честно, что более сговорчивого и более доброго человека, чем русский мужик, на белом свете нет.
— Это что же, русская баба — не чета русскому мужику? Разнодолица получается. Сейчас кругом говорят о равноправии, а женщину снова к печке, к кастрюльке, к поросёнку?
— Русские женщины — лучшие в мире, — отозвался Сорока — лучше их нет, барышня! Даю честное слово балтийского матроса.
— Верю, — Маша неожиданно смутилась, глаза её сделались робкими, увлажнились. Сорока отметил, что Маша вообще легко смущается, ему захотелось защитить её, прикрыть от ветра, от дождя, от напастей жизни и природы, отдать ей свой бушлат, свои сухари, и деньжонки, которые у него скопились за время разбоя, револьвер и вообще положить ей на колени свою лохматую голову и зареветь в голос.
Сорока не понимал, что с ним происходит. То же самое не понимала и Маша.
Она колебалась — рассказать Сороке о том, что недавно слышала или не рассказывать. Ведь если не рассказать, то с Таганцевым, наверное, может случиться что-нибудь очень плохое. Таганцева надо спасать.
Стыдливая розовина сползла с её щёк, Маша сделалась бледной, на крылышках носа выступили блёстки. Сорока встревожился: что случилось? Сделал движение к ней, но тут же остановил себя: а вдруг Маша поймёт его неверно? Откинулся назад, поглядел беспомощно по сторонам. Потом спросил — наконец-то догадался спросить:
— Барыш… Извиняйте, Маша, что-нибудь стряслось?
Маша, не отвечая, по-детски горько мотнула головой.
— Что? Может, помощь нужна?
— Вы к Владимиру Николаичу Таганцеву хорошо относитесь?
— Да как вам сказать? — Сорока неожиданно рассмеялся. Смех дробью скакнул к потолку, зазвучал сильно, громче обычного, в Сорокиных глазах возникла суматоха: а вдруг его смех обидит хозяйку? И он резко оборвал себя. — Разница между нами большая, — сказал он, — ваш барин вон где находится, — Сорока, вскинув руку, поболтал ею вверху, потом, чтобы увеличить высоту, привстал, — а я вот где, — с высоты Сорока стремительно нырнул вниз, забираясь чуть ли не под табурет, повозил рукой по полу, — вот где я! Как я могу судить с такой высоты о вашем барине? Для этого у меня нет обзора. Он для меня, как, собственно, и для вас, Маша, барин, а мы для барина соответственно работные люди. Чернь.
— Владимир Николаич — хороший человек.
— Может быть, может быть…
— Мне кажется, он в большую неприятность влез, — проговорила Маша и умолкла, шевельнула беззвучно губами — растерялась, она, похоже, засомневалась, решила не говорить больше ничего, хватит и того, что сказала.
Сорока всё понял и произнёс с пугающей ясностью:
— Я всё знаю!
Маша испугалась ещё больше:
— Откуда?
— От верблюда, — грубовато проговорил Сорока, улыбнулся Маше, — знаете, есть такое большое морское животное — верблюд. Плавает по морям, по волнам, любит тепло, питается рыбой и капустой, умеет реветь, плавать, читать листовки и играть в дудочку. Называется животное, повторяю, — верблюд. У нас в Кронштадте один такой живёт, я с ним общаюсь. Он выписывает английскую газету, и я от него знаю все новости.
— Вы всё шутите, а Владимир Николаич в опасности.
— Думаю, что эту опасность он сам себе придумал.
— Значит, сам виноват? — сделала вывод Маша.
— Сам виноват!
— Тогда как быть?
— Пойти в одно место и рассказать, — неожиданно для себя, не колеблясь ни единой секунды, сказал Сорока. Голос его зазвенел — настоящий металл, твёрдый голос решительного человека, в следующий миг он не сладил с собою, ведь разоблачение Таганцева коснётся и его, ощутил в себе глухую тоску, страх, решил отработать задний ход, но вместо этого произнёс горько: — Да, пойти и рассказать! Это будет самое лучшее дело.
— Тогда Владимира Николаича посадят.
— Так или иначе посадят, — Сорока чуть было не добавил: «И меня вместе с ним», но удержался — к чему это знать бедной служанке с нежным лицом? Такие вещи портят аппетит, фигуру, вызывают бессонницу. — Чем раньше сядешь — тем раньше выйдешь.
Машины плечи дёрнулись немощно, зажато, она притиснула ладони к вискам.
— Неужели это всё правда? Посадят?
— Как пить дать, — Сорока снова усмехнулся, — но не бойтесь этого, Маша. Человек из этой молотилки выходит очищенным. Что ваш барин… как его? Владимир Николаевич? Что он, что я. Главное не это, главное — жизнь продолжится. А от тюрьмы да от сумы никто не застрахован.
— Не-ет, — Маша отрицательно покачала головой, — не могу, не хочу. Не хочу, не могу-у!