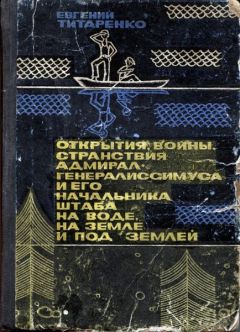Валерий Поволяев - Русская рулетка
Надоело всё! Собачья жизнь надоела. Поджоги, стрельба надоели. Хорошо, что вчера дедка-охранника пощадили — гулял бы славный оруженосец сейчас в райских кущах вместе с Красковым, яблочки с веток срывал и в рот бы кидал, да не дали — одно, всего одно светлое пятно осталось в длинном вчерашнем дне.
Была бы возможность — удрал бы он отсюда ко всем чертям. Вот только куда? Некуда — ни роду у Сороки, ни племени, ни дома, ничего этого никогда не было. Он даже не знает, Сорока — это настоящая его фамилия или всего-навсего кличка, ставшая фамилией?
Единственное место, куда он может удрать — детство. Как бы человеку ни было худо в детстве, он всё равно вспоминает ту пору с нежностью и теплом, и бывает так: всё гибнет, даже самое святое, имеющее наивысшую ценность, а детство остаётся, и человек возвращается в него, когда хочет. По доброй воле, не по принуждению.
Он пытался вспомнить своё детство и не смог — его детство не имело предметов, даже контуров и деталей у него не было, имело только цвет; жгуче-багровый, пылающий — цвет большого огня, на который нельзя смотреть без содрогания. Даже духа не осталось — только цвет.
Неожиданная улыбка осветила его лицо, даже тёмные, набрякшие печной копотью подглазья, и те высветлились. Он понял, что в этом мире есть ещё один печальный утомлённый человек, испускющий такие же волны — Маша. Она у барина Таганцева, похоже, в десяти ролях выступает — и как кухарка, и швейцар, и экономка, и истопник, и кладовщик, и придворный кондитер. И ему захотелось немедленно увидеть «придворного кондитера».
Он поглядел на часы — поздно. Сегодня уже поздно. Таганцев, небось, уже пришёл домой, скинул свои надраенные до лакового блеска штиблеты, натянул на ноги тапочки и сейчас сидит за столом и пьёт чай. Лоснящиеся губы вытянул дудочкой — чай горячий, пьёт он его из блюдца, аккуратно держа посуду в руке, пьёт вкусно, со смаком, с причмокиваниями, деликатно отклячив пухлый ухоженный мизинец. Рядом на столе лежит колотый сахар. Таганцев откусывает сахар по малой малости, долго держит во рту, пропитываясь сладостью, потом подносит к губам блюдце. Сорока покрутил головой завистливо. Ему захотелось чаю, сахару, захотелось увидеть Машу.
Тамаев и Шерстобитов вернулись в два часа ночи. Тамаев бросил на стол тощий брезентовый портфель, вызвавший у Сороки жалость: ну будто бы этот портфель отняли у ребёнка, либо у старушки, которая хранила в нём сонник и карты.
— Удалось сравнять счёт? — спросил он у Шерстобитова.
Тот отвернулся в сторону.
— Не совсем. Одного спустили в канал. Второго не удалось.
— Чего, петроградская публика слишком осторожной стала?
— Слишком пуглива, — Шерстобитов вздохнул: не привык он делать то, что ему пришлось делать.
Сорока выругался про себя — то, что можно делать одним, нельзя другим. Тамаеву ножиком орудовать, что дураку Шерстобитову ложкой в кубрике, когда туда приносят котёл с кашей: не пара они, вес неравный. Приподнял брезентовый портфелишко — тот был лёгок, расстегнул замки. Из портфеля выпало несколько бумажек. Поднял один листок, прочитал несколько предложений и ахнул — это был приказ. Ухлопали боевики, судя по всему, курьера одной из новоиспечённых петроградских организаций, их тут видимо-невидимо напекли в последнее время: по спичкам, по тряпью, сучьям, щепкам, железу, коровьим копытам, по веникам, по мусору — видать, был этот курьер дедком либо пухлогубым ротозеем мальчишкой, раз ему свернули шею. Как когда-то Сорока в детстве.
Чего-то и квартира Раисы Ромейко, в которой они жили, показалась не такой большой, как вчера, — пространство сузилось, в стенах надломилось, лопнули какие-то прокладки, проложенные для крепости, стены дрогнули и сдвинулись, Шерстобитов съёжился, из богатыря превратился в гнома.
— Страшно было?
— Нет, — Шерстобитов мотнул головой.
— Кричал дедок перед смертью-то?
— Да какой там дедок? Если бы дедок… Мокрогубый пацан, от мамани только что. Не кричал — он не верил, что его убьют.
— А вы убили!
Плечи у Шерстобитова перекосились, — много всякого имелось в этом мощном теле, в этой примятой в висках голове, всего бог наложил поровну, и хорошего, и плохого, и видать, есть шанс у Шерстобитова, раз он мается, отворачивает в сторону голову и страдает.
— Не я убил, — Шерстобитов не пытался даже избавиться от сырости, которая натекла ему в нос, в рот, в виски, в глаза, в кулаки, — это он убил, он…
Раньше из Шерстобитова слова нельзя было выдавить, он не видел окружающих, не видел самого себя, был зашорен и шёл только в направлении, отведённом ему закрылками шор, — в основном прямо, помаргивал добрыми глазками, ворочал тяжести, сопел в две ноздри и, когда давали покурить — курил, когда давали поесть — ел, когда разрешали поспать — спал. Первобытное состояние. Чтобы вывести из него Шерстобитова, нужен был удар.
Удар последовал.
— Стиснул глотку руками, у того голова надломилась, как у курёнка, портфельчик выпал, и мы мальчугана — в канал. Два буля только и пустил, — произнёс Шерстобитов и замолчал.
Сорока оглянулся — сзади стоял боцман, неприязненно двигал нижней челюстью.
— Что, впечатлениями делишься? Жалости у друга наскрести хочешь? Кончай распространяться, Шерстобитов, понял! — боцман вскинул тяжёлый, в крапе кулак.
— Да у него самого кулачок не меньше, боцман, — насмешливо проговорил Сорока. — Как только поймёт эту истину, тогда всё-ё, любой власти — конец.
— У кого это ты вычитал? У Ленина?
— Сам допёр!
— Может, ты ещё и в партию ихнюю вступишь?
— Чего нет — того нет, — Сорока хотел добавить, что в принципе вступил бы, да не примут, но удержался.
Ему было жаль толстогубого чалдона Шерстобитова, так и не осознавшего, что происходит, не взявшего пока в толк, кто они и что они. Тамаев качнулся на ногах, с интересом рассматривая Сороку, задумчиво проговорил:
— Не пойму я тебя, матрос. Чего тебе надо? Чего ты всё, — он растопырил пальцы на манер вил и повертел ими в воздухе, — всё шаришься, в душу с ботинками забраться пытаешься? Чего?
— Кажется тебе всё это, боцман. Приснилось.
— Нет, не приснилось, — Тамаев крутанул вилы перед его лицом, — и не кажется.
— Да ты посмотри на Шерстобитова! Его же водкой, как дитятко, надо напоить и в постельку уложить. Трясёт всего. Лица нет!
— Верно. Но не твоё это дело, — боцман снова попробовал крутить вилами перед Сорокой, но тому это уже надоело, он выдернул из кармана револьвер, подкинул его и ловко, на ковбойский манер поймал.
Боцман скосил глаза — палец Сороки находился под оградительной скобой, на спусковом крючке, чёрная пустая звёздочка дула дышала теплом — в один момент выплюнет горячую плошку. Боцман невольно зажмурился: представил себе, как ему будет больно. Облизал влажным неповоротливым языком губы.
— Ты чего это, Сорока?
— Ничего, — беспечно отозвался Сорока, — револьвертиком играюсь. Он у меня чего-то барахлит.
— Д-давай починю!
— Я и сам чинить револьверты умею, спасибо, ваше благородие, — произнёс Сорока чётко, по слогам, смакуя каждое слово.
Боцман открыл глаза, постарался нащупать глазами взгляд Сороки и ничего хорошего там не увидел. Понял всё, круто развернулся и ушёл.
Глава четырнадцатая
Утром, когда проснулись, портфеля не было — появившаяся в квартире Раиса Ромейко засунула его под притолоку, в глухое место, туда, где ни один сыщик его не найдёт, а через несколько часов документы отправила за кордон с Сердюком. Сердюк ушёл в Финляндию, в косые струи слабенького, едва сумевшего разогнать туман солнца.
Завидовал ли кто-нибудь Сердюку? Нет. Лазить в дырку на границе — штука, как бы там ни было, небезопасная, колючек много, да потом, что, в конце концов, там делать, за кордоном-то? Дома лучше. А за кордоном и по-русски, кроме соседа по кубрику, никто не смыслит, и нравы такие, что самого себя перестаёшь понимать, и земля там другая. Земля, небо, вода, травы — всё другое. Лишь один Сорока пожалел, что Сердюка нет, поболтать не с кем.
Что-то перевернулось всё в нём, концы не сходятся с концами. Если бы Сорока мог рассказать, что с ним происходит, обязательно бы рассказал. Перед ним обозначался светлый промельк: Маша. Сорока пошёл к боцману.
— Можно ли мне днём отлучиться в город?
— Зачем тебе? — боцман сощурился.
— Барин сам велел зайти. Крысы у него в доме, продукт грызут почём зря.
— Так уж и велел? Сам?
— Сам!
— Так ты ж у него насчёт крыс был. Боролся уже.
— Ещё завелись.
— Не верю я тебе, — боцман выразительно скрючил палец, потом согнул один ус и, соображая о чём-то своём, сунул его в рот, надкусил зубами кончик, выплюнул.
— Верить не верить — это, боцман, твоё личное дело. Говорю, крысы снова завелись, значит, завелись.