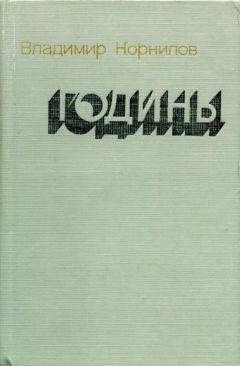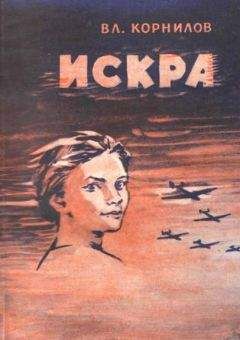Владимир Корнилов - Годины
Молчаливый поединок памяти и долга продолжался в душе Алеши какую-то, как будто повисшую над временем минуту. Потом минута заняла свое место во времени, и Алеша молча стал делать то, что должен был делать. Из пробитой двумя пулями сумки извлек уцелевший жгут, стянул бедро, остановил кровь; через распоротую штанину туго забинтовал пулевую рваную рану. Не пожалел, последним перевязочным пакетом забинтовал и разрезанную ножом штанину, чтобы хоть как-то укрыть от холода наверняка занемевшую ногу. На комбата-два он не смотрел, он делал свою работу, делал так, как делал бы любому раненому солдату, даже тщательнее, лучше, из упрямого желания показать, что он не способен злом отвечать на зло.
Потом так же молча они лежали в снегу, рядом. Комбата знобило, Алеша видел его сцепленные на животе, подрагивающие руки. Он приподнялся, молча расцепил заледенелые руки комбата, натянул на них свои рукавицы, широкий ворот комбатовского полушубка расправил под головой, завязал тесемки ушанки под твердым, как камень, подбородком. Все это не могло согреть обескровленного, лежащего в снегу человека. Поколебавшись, он распахнул свой полушубок, расстегнул полушубок на покорном ему сейчас комбате, охватил ладонями прямые костистые плечи, осторожно, стараясь не задеть раненую его ногу, прижался своим разгоряченным телом. Какое-то время он неловко лежал, отдавая свое тепло, щекой ощущая колючий холод металлических пуговиц гимнастерки, перемогая застойный запах табака и запах чужого ему тела. Комбат перестал дрожать, дышал ровнее. Алеша, стараясь сохранить тепло, запахнул на его груди полушубок, натягивая петли на кожаные пуговицы, поднял глаза и встретил близкий, незнакомый в своем выражении взгляд: всегда холодно-властные, глаза комбата-два благодарили, заискивали, молили.
Алеша понимал: до ночи комбат не доживет; надо было найти путь из снеговой ловушки. Он попытался стянуть к себе под уклон лежащего на снеговой ладони солдата. Но едва пошевелил неподатливое тело, пули взвизгнули, пронеслись у руки, ударили, разрывая на мертвом шинель. Алеша отпрянул, увидел лицо солдата, узнал: вчера утром этот молоденький связной комбата, пробегая мимо, весело крикнул ему: «Выступаем!» — «И вот он — короткий на войне путь», — подумал Алеша с кольнувшим сердце состраданием.
Безнадежно было и пытаться перетащить комбата через горушку, прикрываясь телом убитого связного.
Комбат все видел; уронив голову на плечо, он смотрел, и мольба в его взгляде уже сменилась покорностью тому, что должно быть.
Алеша не помнил, как услышал будто издалека идущий, слабый его голос:
— До дома… сорок верст не дошел… Мать, дети… все тут…
Тоскливые слова комбата словно проскребли по сердцу. С этой минуты Алеша знал, что сделает даже невозможное, но человека этого спасет.
Трудно проследить в меняющемся времени, как детство, с его будто бы наивными играми, вдруг проявляет себя через много лет в сложностях уже взрослой жизни, порой в таких вот опасных обстоятельствах, в каких оказался Алеша, с раненым комбатом на руках, среди идущего боя. Что дало найти ему путь из, казалось бы, полной безысходности: ребячьи ли игры в «белых» и «красных» со снежными крепостями и хитроумными подкопами; водный ли упорный марафон, вылепивший послушное, выносливое тело; охотничья ли страсть, которая научила невидимо подбираться к чуткой дичи, — но опыт бытия, накопленный им за восемнадцать лет жизни, оказался счастливее того военного опыта, которым владел невидимый немецкий пулеметчик. В боку смертной горошки он сумел отыскать похожую на канаву впадину, плотно забитую еще первым оттепельным снегом, заровненную ноябрьскими снегопадами, и, заходясь от боли, отогревая, дыханием побитые бесчувственные пальцы, проскреб каской ход; через тесноту этого хода протащил беспомощного комбата к залегшим в распадке солдатам.
Когда под стук и звень чиркающих землю пуль, вжимаясь в крошево мерзлой земли и снега, рывок за рывком, он протаскивал по прорытому ходу как будто налитого, валунной тяжестью комбата, ударило его какой-то твердостью в левое бедро. В запальной суете дела он не обратил внимания на свой ушиб, терпел боль и потом, когда вытянул комбата к распадку и уже вчетвером, на плащ-палатке, они тащили его по оврагу в тыл. Но ясно помнил, как всю долгую дорогу видел заискивающий, признательный взгляд полузакрытых от слабости и в то же время лихорадочно блестящих глаз комбата. Взгляд комбата неотступно следил за ним и тогда, когда, до бесчувствия сжимая пальцами угол плащ-палатки, оступаясь на неровностях дна оврага, он вместе с солдатами тащил его, беспомощно-покорного, и в те короткие минуты, когда, задохнувшись от непосильной для спешного хода ноши, они опускали его, тяжелого, на снег и все четверо падали тут же на холод размятой ногами, колесами и гусеницами дороги. Алеша даже помнил, как обожгло его неожиданное прикосновение чужой руки: где-то уже под берегом, на такой же остановке комбат нашел его руку, слабо, благодарно пожал.
Вконец обессиленные, они вволокли безмолвного комбата в палатку санвзвода. Алеша встал в стороне от тотчас образовавшейся вокруг комбата суеты; он чувствовал, как дрожат ослабевшие ноги, чувствовал боль в зашибленном боку, устало смотрел, как Авров распоряжался, чтобы комбата осторожно подняли на высокий стол; видел маленькие, встревоженные глазки на широком, с выпирающими скулами, яйце Ивана Степановича: подняв кверху шприц с тонкой иглой, он терпеливо ждал, когда освободят комбата от лишней одежды и бинтов.
Комбат ожил, возбудился, как это обычно бывает в определенный час с тяжелоранеными, неверными, спешащими движениями помогал стянуть с себя ремни, полушубок. Освободившись от одежды, приняв укол, он приподнялся на локтях, оглядел всех медленным, узнающим взглядом. В свете двух керосиновых ламп, прикрепленных к стоякам палатки, Алеша видел, как возвращалась к недавно отрешенному лицу комбата осмысленность, как проступала в свете ламп в заострившихся чертах удлиненного, нездорового лица и былая властность. Приподняв кисть руки с разведенными в нетерпеливом ожидании пальцами, он приказал:
— Курить!..
Авров заученным движением выхватил из своего кармана портсигар, обломал у папиросы конец, всунул в мундштук, с пониманием вложил конец мундштука в приоткрытые губы комбата, чиркнул зажигалкой. Комбат, откинувшись на изголовье, молча всасывал дым, неподвижно глядя в зауженный верх палатки; не докурив, бросил мундштук под ноги Аврову.
— Пить. Чаю! Горячего! — так же властно приказал он; Авров исчез. И тут, словно заполняя освободившееся место, влетела в палатку, с раскрытым в безмолвном крике ртом, простоволосая, в одной лишь гимнастерке, похожая на мальчишку Полинка. Будто не видя людей, упала она головой на грудь комбата, худенькие ее плечи дергались, — рыдала она в голос, как плачут деревенские женщины при невозвратной разлуке. И комбат — Алеша хорошо это видел — в досаде покривил губы крупного рта, с неожиданной силой отстранил, почти оттолкнул ее от себя. Девушка замерла в изумлении, вцепившись согнутыми пальцами в свои мокрые щеки; потом, все поняв, с ужасом в глазах отступила, как будто повалилась за потрескивающую огнем печку, и там, забившись в тень угла, плакала, стискивая в горле стоны.
Комбат, не обращая внимания на прорывающийся из угла стон, приподнялся на локтях:
— Пить! Где Авров?!
Он сказал это нетерпеливо, и кто-то из девчат подстегнуто выбежал искать старшину. Алеша видел: комбат сознает свою власть над стоящими вокруг людьми; он снова обводил всех медленным взглядом, как будто спрашивал каждого: «Ну, чего стоишь?!» И каждый, на ком останавливался его взгляд, опускал глаза, неловко отступал в полусумрак палатки. Комбат знал, что спасен, он слышал, как уже пофыркивала у входа лошадь, готовая домчать его до ближайшего госпиталя, и, сознавая еще действующую свою власть, как бы освобождал себя от людей, от которых теперь не зависел.
Алеша с нарастающим душевным напряжением ждал, когда взгляд комбата остановится на нем, он еще не верил, что в спасенном им человеке вместе с жизнью оживет тот, прежний, комбат-два, для которого власть не была и не могла быть добром.
Комбат-два остановил на нем взгляд на такой же короткий, точно отмеренный, как для всех других, стоящих вокруг, миг и с той же мерой властной досады на то, что человек, на которого он смотрит, еще находится здесь. Словно оттолкнув взглядом Алешу, крикнул раздраженно:
— Где Авров?! Ехать надо!..
«Вот оно!» — потрясенно думал Алеша, выходя из душного воздуха палатки на мороз, в звездную ночь, плохо еще сознавая, каким тяжелым смыслом наполняются эти, еще утром звеневшие радостью, слова.
Новый, еще неясный ему, тяжелый смысл привычных слов состоял в том, что духовная его победа над былой несправедливостью жестокого в своей власти комбата, в которую так безоглядно он поверил, не оказалась победой. В его памяти жила его духовная победа над красавцем Конюховым в училище, вдруг прорвавшиеся в последние минуты прощания его раскаяние и признательность ему, Алеше, и мокрое от слез его лицо, и тем горше было чувствовать напрасность всех своих усилий, которые он употребил на то, чтобы хотя бы в расставании увидеть комбата человеком.