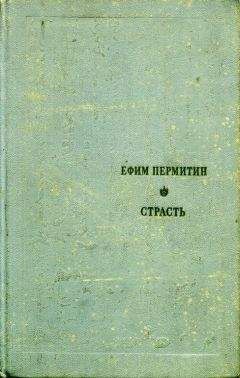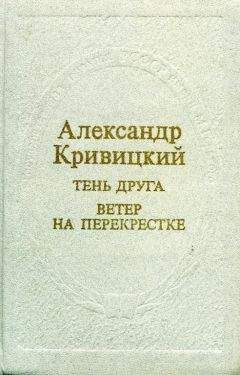Анатолий Калинин - Возврата нет
И показания соседки с каждым днем становились все туманнее. То она уверенно отвечала на следствии: «Своими глазами видела, не слепая…», а то стала уклончиво говорить: «Оно, конечно, может, мне и привидилось. Я и сама женщина уже старая, перед вечером совсем плохо вижу, а очки мне немецкий солдат разбил, когда я с ним из-за последней курицы боролась».
Где-то в глубине души соседка продолжала верить, что Варвара не просто так, по случайному совпадению, показала рукой через плечо, но на это время, пока Варвару возили на следствие, это добрая женщина приютила ее дочку Ольгу, каждый вечер укладывала в постель рядом с собой, потому что девочка напугалась бомбежки и боялась спать одна, и чем крепче Ольга по ночам прижималась к ее плечу, вздрагивая и всхлипывая во сне, тем глубже заползала в сердце соседки жалость. Вот может и еще одна появиться на свете сирота. И тем все больше женщина разуверялась в том, что видела она из окна в тот страшный день своими глазами. Нет, должно быть, и правда ей почудилось. Наступил день, когда у нее в ответ на вопрос следователя, уж не намерена ли она, судя по ее поведению, отказаться от своих прежних показаний, вдруг вырвалось от всей усталой души:
— Да ослобони ты меня сынок, ради христа, от своих расспросов. Мало ли чего глупой бабе не покажется, а вы всему верите. Я сейчас и сама ничего не знаю и не помню. Ослобони ты меня от этого дюже поганого дела. Я с судами сроду дела не имела и до смерти иметь не хочу.
И следователи, слушая такие слова, сами начинали колебаться. А Варвара сидела перед ними старая, с трясущейся головой, и ни разу не сбилась, отвечая на все вопросы, говорила одно и то же. Следователи менялись, синяя папка с делом переходила из одних рук в другие, и каждому новому следователю все с менее жгучей реальностью представлялось все то страшное, что произошло на Табуншиковом дворе в февральский полдень 1943 года. Все более неправдоподобным казалось, что эта русская женщина, сама мать, способна на такое злодеяние, и все более расплывчатыми и недоказательными представлялись косвенные — прямых не было — улики этого дела. И наступил день, когда рука самого последнего из следователей вывела заключение наискось первого листа этого дела: «За отсутствием достаточных улик производством прекратить». С этого дня милиция и прокуратура оставили Варвару в покое.
В тот же день она прямо из райцентра, из прокуратуры прошла на хутор Каныгин, где действовала церковь, и заказала службу «за упокой убиенного раба божьего Алексея». Она помнила, что командир русской разведки так называл своего братушку.
И так как, кроме соседки, никто больше не мог видеть, как Варвара выдала разведчика немцам, то и люди в хуторе к ней помягчели, хотя и не забывали, что она мать двух полицаев. Но все же это не то, что самолично предать человека вратам на верную смерть… А еще позже приехал в хутор и поселился здесь хороший парень, из демобилизованных, сержант Дмитрий Кравцов — вся грудь в боевых наградах, женился на Ольге Табунщиковой, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет, и многое закрыл своей спиной. За этой спиной и Варваре стало спокойнее.
* * *С первого утреннего парохода сошла на станичной пристани в пяти километрах от хутора старая женщина. У берегового матроса поинтересовалась дорогой на Вербный. Взглянув на ее одежду — на серое платьице, такого же цвета жакет — и большую клеенчатую сумку, матрос сразу определил: не местная. Но и не с Вербного, потому что за свои шестьдесят лет жизни на этом берегу старый матрос успел узнать в лицо не только всех станичных жителей. И, охотно рассказав приезжей, что идти на Вербный ей следует сперва по-над Доном, у самой воды, а дальше и до самого Вербного по-над виноградными садами, он, в свою очередь, полюбопытствовал:
— А вы туда к своим сродственникам али просто к знакомым?
Сквозь толстые стекла очков женщина взглянула на него большими глазами:
— К родственникам.
И, повернувшись, пошла по береговой дороге. «Не иначе, учителка, а теперь на пенсии», — почему-то с уверенностью заключил матрос, наблюдая, как она трудно переступает по песчаной дороге в своих серых парусиновых туфлях. Нет-нет, а и взглядывал матрос потом на дорогу, жалея, что постеснялся расспросить приезжую как следует и теперь должен ломать голову, какие именно родственники живут у нее на Вербном. Вскоре всех, кто только мог показаться ему подходящим в роли ее родственников, он перебрал и ни на ком не мог остановиться. Но и солгать эта старая женщина ему не могла: глаза ее взглянули на него, расплываясь за стеклами очков, серьезно. За свои шестьдесят лет он успел убедиться, что такие глаза не лгут.
А так как ему предстояло еще весь день проскучать на пустынном берегу между пароходами, которые приставали здесь редко, то он и продолжал размышлять об этом до тех пор, пока серый комочек на береговой дороге не втянулся под зеленые вербы. Но и после этого он еще не раз принимался буравить взглядом глянцевитую листву верб, под которыми скрылась эта женщина.
Несмотря на то, что накатанная колесами подвод и натоптанная пешеходами дорога от станицы до самого хутора ни разу не удалялась от Дона, от воды, а справа притенялась вербами и листвой виноградных садов, пройти по ней пять-шесть километров в этот утренний час было нелегко. Под крутым склоном правого берега застаивалась, не расступаясь и ночью, духота, а струя ветра если и достигала сюда временами, то приходила она все с одной и то же стороны — с юго-востока. Не охлаждала она, а еще больше накаляла воздух.
Эта же осень была особенно сухой, жаркой. Уже к концу сентября она как будто пораскидала среди прибрежных талов багровые цыганские платки. Закрадывалась желтизна и в листву верб. Только на густую, сочную зелень виноградных садов еще не успела брызнуть ни единая капля осенней краски.
Женщина с утреннего парохода вскоре сняла с себя жакет, спрятала его в сумку и, сломив сбоку дороги ветку, стала ею обмахиваться. Лицо у нее покраснело, покрылось каплями пота. Не так-то легко было ей вытаскивать свои уже немолодые ноги из песка. Она останавливалась, вытряхивала его из туфель и шла дальше. За всю дорогу она только раз и остановилась, чтобы отдохнуть.
Она сошла с дороги и опустилась на траву под вербой, когда впереди из зелени садов уже забелели хуторские стены, засверкала под солнцем стекла окон и стал круто заворачивать, подниматься в гору плетень, которым были отгорожены от дороги кусты винограда, отягощенные черными и желтыми, как будто отлитыми из чугуна и меди, гроздьями.
Оказывается, никто особенно не ждал к себе в гости эту женщину там, в хуторе Вербном, если она уже у самого конца пути решила позавтракать тем, что взяла с собой в дорогу в свою клеенчатую сумку. Разостлав на траве газету, она достала хлеб, два яичка и пузырек с солью. Все это наблюдал из-за плетня сторож виноградного сада. Он сидел на маленькой деревянной скамейке у входа в свою сторожку и обшивал автомобильной резиной валенки. Он заметил эту женщину со своего возвышенного места еще тогда, когда она только что отошла от станицы, и по ее походке, по другим разным признакам легко определил, что она уже давно вышла из того возраста, когда ногам ничего не стоит пройти пять или шесть километров в самое пекло.
А он и сам уже был старик. Он на войне был и через фашистский плен прошел и с тех пор усвоил себе твердое правило — непременно делиться с людьми тем, чем только мог поделиться. Он сразу увидел, что у этой женщины с харчишками, взятыми ею в дорогу, не густо. С двух ближайших кустов винограда старый сторож срезал садовым ножом две большие спелые грозди — черную и белую, вышел из калитки из-за плетня и, поздоровавшись с женщиной, молча положил их перед ней на газету.
Она не удивилась и не отказалась, взглянув на него снизу вверх увеличенными стеклами очков глазами:
— Спасибо.
— Кушайте на здоровье, — ответил он и, отойдя чуть поодаль, прислонился к стволу вербы, ни о чем ее не расспрашивая, по опыту зная, что, если человеку необходимо открыть свою душу, он сам ее откроет, а если нет, то незачем и ломиться туда к нему без спроса.
Она спросила у него, взглянув на белеющие впереди из зелени домики:
— Это и есть хутор Вербный?
— Так точно, — ответил он по солдатской привычке.
Одну гроздь винограда женщина съела, отщипывая с нее ягоды тонкими, худыми пальцами, а другую завернула в газету и положила к себе в сумку.
— После съем. Хороший виноград. Но очень сладкий. — И она, виновато улыбнулась старику одними глазами. — После него еще больше пить хочется. — Она достала из сумки эмалированную голубую кружку, намереваясь сходить с нею к Дону.
Он остановил ее:
— Нет, мы тут воду из колодца пьем. Донская хоть и тоже хорошая, а теплее.