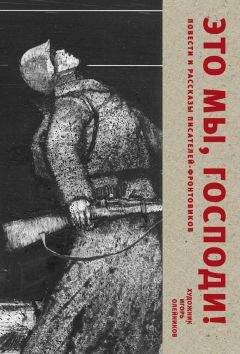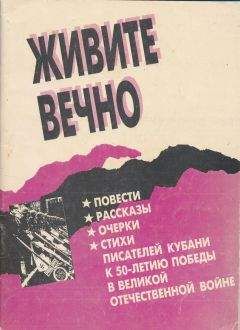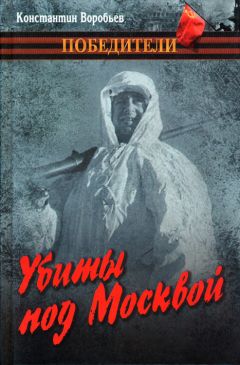Анатолий Брусникин - Беллона
Всех, кто не был нужен возле пушек, включая пехотное прикрытие, должно быть, отвели в ближний овраг. То-то я их по дороге не приметил. Зато видел Шрамма. Он сидел на складном стульчике перед бараком перевязочного пункта, пил кофе из большой фаянсовой кружки, да покрикивал на санитаров. Они все были из гарнизонных арестантов — с полуобритыми головами, в серых халатах. Кто-то раскладывал в длинный ряд носилки, кто-то таскал в барак ведра с песком.
— Пыстрей пегай, пыстрей! — подгонял их лекарь. — На пол зыпать куще! Кровь скользкая, мошно упасть!
Я вспомнил, как он орудовал пилой во время Синопа.
Бр-р-р!
«Боженька, милый, если нельзя мне от бомбы-пули уберечься, убей меня лучше сразу, наповал». Я перекрестился, отвернулся — и поскорей мимо.
На бастионе-то было хорошо. Чистота, порядок, все заняты делом — как на настоящей «Беллоне».
Капитан Иноземцов стоял у амбразуры. Покуривал сигару, прикладывался к биноклю. По небу ползли низкие тучи, начинал моросить дождик, но тумана нынче не было, и вражеские позиции уже хорошо просматривались.
Пригнувшись, я перебежал к мортире, расположенной на правом фланге третьей батареи. Во-первых, от нее было дальше всего до Платона Платоновича, а во-вторых, фейерверкером, то есть командиром расчета, там состоял Соловейко, и я надеялся, что он меня не выдаст.
Так оно и вышло.
— Чего приперся? Вали отседова в овраг, тут без тебя дураков много, — не шибко любезно встретил меня рыжий, но голос был веселый, можно даже сказать, приветливый.
— У меня глаз сам знаешь какой. И орудие наводить я умею.
— Глазом своим можешь… — Соловейко объяснил, куда именно я могу заглянуть моим зорким глазом. — Наводить седни незачем. Приказ всем мортирам палить в одно и то же место. Лейтенант сам прицел ставил. Милое дело: знай, сыпь порох, пуляй в небо, да следи, чтоб планка не сбилась. Я вот ухи пенькой заткну и спать лягу. Пущай «сухари» без меня заряжают.
Прогонять меня, однако, Соловейко не стал. По-моему, он был даже рад моему приходу. Расчет у него был весь из «сухарей», то есть сухопутных артиллеристов, и разговаривать с ними Соловейко почитал ниже своего достоинства.
— Вон туда все бомбы полетят, видишь? — Я показал на верхний ярус французского укрепления. — Квадрат дэ-двенадцать — он вон он где.
Но смотрел я не на квадрат, в котором по схеме артиллерийского огня находился пороховой погреб — все равно отсюда его было не углядеть. Я просто разглядывал Лысую Гору и диву давался. Всего сутки назад я находился там. Прятался в кустах, лежал на траве, вдыхал запах земли. А будто тыща лет прошла.
Еще я подумал, что поганые эти французы, со своими анфан-пердю, подлыми кантиньерками и шустрыми петушками, обсели мою заветную тайну, будто туча мух. И покуда мы с Платоном Платоновичем не освободим Лысую Гору от этой нечисти, ничего у меня не будет — ни Дианы, ни белого корабля. Первый раз с начала войны — а длилась она, считай, уже целый год — ощутил я злобу на врага. До сей поры это государь император с ними воевал, мое дело было служивое. Теперь же кулаки у меня сжались, зубы заскрипели. Если б сейчас капитан Иноземцов приказал: «Ура! В атаку!» — я бы первый побежал, и нисколько бы не было мне страшно.
— Капитан, — ткнул меня Соловейко. — Прячься, сопливый.
Стало быть, понял, что я самовольно заявился.
Вдоль бруствера в нашу сторону неторопливо двигался Платон Платонович, переговариваясь с солдатами. За ним, отстав на пару шагов, следовал Джанко. Вот кого следовало опасаться. Иноземцов-то не особенно приметлив, а от индейца поди укройся. Всё видит, черт краснокожий.
Я присел за лафет, сжался. Если капитан меня застукает — как пить дать отправит в карцер, и сидеть мне там под замком до окончания боя.
Негромкий голос звучал всё ближе. Вот уже можно было разобрать слова.
— Заскучали, братцы, без дела? Перебежчик говорил, в половине седьмого начнется. Что-то господа союзники опазды…
ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-!!! — загрохотало вдруг, и у меня заложило уши.
Забыв об осторожности, я вскочил на ноги.
Неприятельская линия — вся, сколько хватало взгляда, — будто вскипела белой пеной. Это ударил залп из сотен орудий. Словно невидимая страшная сила разодрала холмы и долину надвое, оставив на лике земли кипящий шов, — он змеился от самого Херсонеса.
Началось!
Соловейко что-то с ухмылкой сказал мне.
— А?
— Ну, говори, сигнальщик, когда тикать! — проорал он мне в ухо.
Я, сощурившись, впился глазами в небо.
Боже ты мой! Воздух рябил черными точками. Я не мог охватить взглядом их все, но мне показалось, что они летят прямо на меня.
— Сюда-а-а!!! Ложи-ись! — охнул я и присел за бруствер.
Вокруг загрохотало, вал дрогнул. Обернувшись, я увидел, как разлетаются куски глины, камни, обломки дерева. Нелепо раскорячась, перекувырнулся подкинутый взрывной волной человек. Вихляясь, катилось пушечное колесо. Отовсюду неслись крики, стоны.
Нас накрыло первым же залпом. Казалось, мало кто мог уцелеть после такого удара.
Но я высунулся из укрытия и увидел, что Иноземцов стоит на том же месте и даже не пригнулся.
Стряхивая с фуражки мусор, он сказал командиру нашей батареи обычным голосом:
— Отменно они пристрелялись. Что ж, Иван Гаврилович, с Богом. Как условились: всем мортирам бить залпами по квадрату Д-12. Ну а корректировать огонь пушек, когда пропадет видимость, я буду сам.
Он не особенно торопясь направился к ближней вышке. А лейтенант (он был не наш, не с «Беллоны», только недавно к нам назначен) гулким басом приказал:
— Третья батарея, огонь!
И другие батарейные тоже закричали: «Огонь! Огонь!»
Я увидел, как Джанко хватает Платона Платоновича за локоть и показывает на другую вышку — вторую справа. Капитан пожал плечами, ему было все равно.
Мне еще днем объяснили, что вышек поставлено целых пять штук, чтоб вражеский огонь не был сосредоточен в одной точке. Опять же — если какую собьют, еще четыре останется.
Эти «мачты» для управления огнем стояли только у нас, на «Беллоне». Уж не знаю, как на других бастионах без них обходились. Потому что, едва наши батареи дали залп, вся позиция сразу окуталась густым дымом. И потом, в протяжение всего времени, пока я оставался на валу, уже мало что можно было разглядеть. Я хорошо видел только нашу мортиру, да вспышки, когда палила соседняя.
Иногда в серо-белой мути образовывалась прореха, и в ней что-то проступало, но лишь кусками и ненадолго. Если неподалеку разрывалась вражеская бомба, туман как бы окрашивался багрянцем. Кто-то завопит от боли, засвистят над головой камни или, может, осколки, а видать не видно.
Соловейко, брезговавший разговаривать с «сухарями», пока было тихо, теперь не умолкал, всё сыпал прибаутками.
— Бояться не боись! Смерть пужливых любит! — орал он. — Слушай сюда, я стих сочинил! «Отпиши мамаше: на том свете краше!» «Шевелись, черепахи! Не жалей рубахи!» Слыхали про Пушкина, деревня? Это я он самый Пушкин и есть! Вишь, и пушка при мне! А вот еще стих: «война в Крыму — всё в дыму!»
Щеки нашей амбразуры, выложенные мешками с землей, тлели и вспыхивали от частиц горящего пороха. Мне наконец нашлось дело: я сбивал пламя. Но скоро бросил. После нового выстрела огонь занимался опять. И пусть его.
Взрыв грянул совсем рядом, меня осыпало землей.
— Вестовой! — крикнул лейтенант. — Беги за резервным расчетом для второго орудия! По дороге пришли санитаров! Батарея, залп!
Может и хорошо, что ни черта не видно, подумалось мне. Если б люди посмотрели, что вокруг делается, половина, поди, разбежалась бы. Или окаменела бы, как я на той грот-мачте.
Не сказать, до чего мне было жутко. От злобы на неприятелей ничего не осталось, один ужас. Если б не Соловейко, я бы залез под лафет и нипочем оттуда не вылез.
Страшно мне было оттого, что все вокруг работали, один я бил баклуши. Прав, выходит, был Платон Платонович: нечего мне тут делать. Зачем только я его не послушал? Оно ведь и уставом строго-настрого запрещено, вплоть до строжайшей кары — приказ начальника нарушать!
Голос, усиленный рупором, время от времени взывал из невидимого поднебесья:
— Вторая батарея, на пункт левее, на два градуса ниже! Первая батарея, не долетаете! На градус выше! Мортирная, так держать, молодцы!
И пошел я туда, поближе к этому спокойному голосу. Чтоб вернуть утраченное мужество.
Встал под самой «мачтой», задрал голову.
Вот проредился пороховой туман, расползся клочьями, и увидал я капитана. Он сидел на табурете, спереди прикрытый мешками с землей. В одной руке рупор, в другой сигара. От одного только вида Иноземцова весь страх у меня пропал. Ну, может, не весь, но трястись я перестал.
Справа раздался грохот и треск — не такой, как от бомбовых разрывов. Я обернулся. Это падала сшибленная метким ядром крайняя из вышек — та самая, на которую капитан собирался подняться вначале.