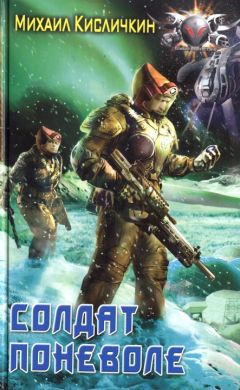Илья Маркин - Курский перевал
— И мы выдержим! — жестко, с яростью в голосе продолжал Ватутин. — Выстоим и раскромсаем их вчистую, наголову разгромим! Конечно, трудно будет, — приглушенно вздохнул он, — возможно, невыносимо трудно, но все нужно преодолеть и устоять. Эх, еще бы недели две, хоть недельку, и тогда… Но едва ли дадут они нам эту неделю. Вот-вот начнется. Но все равно ничего у них не выйдет. Ничего!
Решетников ловил каждое слово, каждый взгляд Ватутина, и его недавние сомнения таяли, словно дым под порывами буйного ветра. Только вернувшись к себе и взглянув на карту, на расчеты сил противника, он полным тревоги голосом задумчиво проговорил:
— А наступать-то на Курск будет миллионная армия!..
Часть вторая
I
Утром 2 июля командующие Воронежским и Центральным фронтами получили шифрованную телеграмму Ставки Верховного Главнокомандования:
«Решительное наступление противника на Курск может начаться в период между третьим и шестым июля. Все войска немедленно привести в полную боевую готовность».
* * *
Тревожна и томительна на позициях советских войск под Курском была ночь на 4 июля — вторая ночь ожидания начала вражеского наступления. После захода солнца прошла, казалось, вечность, а ночной сумрак, несмотря на угасавшую с востока россыпь звезд, все еще упорно держался, сгущаясь в вышине и переходя в сплошную тьму на западе. Нерушимая тишина сковала все сплошь изрытое, густо заполненное людьми и техникой огромное пространство Курского выступа. Даже неизбежные спутники ночи — осветительные ракеты — и те не тревожили грозную тишину и сжимающий сердце предрассветный мрак.
В темном, напоенном свежим запахом сосны пулеметном дзоте с узкими проемами трех бойниц было душно, и разморенные ожиданием и бессонницей Гаркуша, Ашот и Алеша выбрались в ход сообщения. У пулемета остался сам сержант Чалый.
Все трое, лежа на отдававшей сыростью земле, молчали. Даже неугомонный Гаркуша, балагуривший всю первую половину ночи, притих.
Алеша Тамаев то засыпал на мгновение, то встряхивал головой, отгоняя сонливость, и опять, не в силах преодолеть дремоту, забывался. Он не помнил, сколько продолжалось такое полусонное состояние, и очнулся окончательно от мягкого, ласкающего света, властно заполнившего сырую траншею.
«Спокойно, тихо, значит немцы не перешли в наступление», — подумал он и так обрадовался этой мысли, что сонливая расслабленность мгновенно исчезла и все тело, словно под действием наплывавшего света, налилось свежей бодростью. Полежав еще немного, Алеша отбросил шинель, поднялся и пошел в дзот.
— Что не спишь? — мягко спросил его сержант Чалый.
— Утро уж больно хорошее, — ответил Алеша, вставая у правой амбразуры.
— Да, утро на редкость, — согласился Чалый. — Смотри, туман-то стелется, как бархатный, так и хочется рукой потрогать.
В узкий просвет бойницы открывалось изученное до мелочей обширное поле с грядой высоток, занятых нашим боевым охранением, и отлогими, уходящими куда-то к Белгороду холмами, на которых в бивших снизу лучах молодого солнца черными змеями петлялись траншеи противника. Обычно отсюда, где находился пулеметный дзот, было хорошо видно наше боевое охранение и смутно темнели вражеские позиции. Сейчас же, наоборот, низкие волны белесого тумана затопили наши окопы и траншеи, а яркий свет солнца словно специально напоказ оголил черные траншеи, перепутанную паутину проволочных заграждений перед ними, уходящие за холмы изломанные нити ходов сообщения и округлые пятна воронок от взрывов снарядов и мин.
— Словно вымерло все, — видимо, как и Алеша, с любопытством рассматривая вражеское расположение, проговорил Чалый. — То палили день и ночь, как осатанелые, а то четверо суток и не шевелятся. Хитрят фрицы, явно в заблуждение вводят. Но ничего не выйдет, — погрозил он кулаком. — Пусть сунутся! А в общем-то, — внезапно оборвав дружеский разговор, сердито закончил Чалый, — идите отдыхать. Через два часа на дежурство к пулемету.
Алеша послушно ушел в ход сообщения и прилег рядом с безмятежно спавшими Гаркушей и Ашотом.
Утро разгоралось все ослепительнее и ярче. Неуловимо исчезала ночная сырость, и землю окутывало нежное тепло. Вокруг по-прежнему царил нерушимый покой. Алеша закрыл глаза и до самого завтрака спокойно проспал. Потом, сменив Ашота, два часа продежурил у пулемета и снова ушел отдыхать. А вокруг все так же сияло жаркое, слепящее солнце, нежилась знойная тишина, беззаботно синело высветленное бездонное небо. Только после обеда редкими островками поплыли крохотные облачка, бросая жидкие тени на разморенную землю.
В три часа дня Алеша снова заступил на дежурство. Вокруг все так же властно царило немое безлюдье.
— Привет земляку! — услышал он веселый голос Саши Василькова. — Как дежурится, Алеша? Что там фрицы, не шевелятся?
— Как сквозь землю провалились: и не слышно и не видно, — радуясь приходу Василькова, ответил Алеша. — А ты что, к нам или еще куда?
— Туда, в боевое охранение, — смахнув каску с головы, взъерошил белесые вихры Васильков, — в дзот, к нашим хлопцам из первого взвода. Махорка, говорят, у них вышла и газеты принести позабыли. А ты как? Как настроение?
— На «пять» с плюсом, — в тон веселому голосу комсорга сказал Алеша. — Вздремнули, подзакусили, и теперь хоть что!
— Правильно! Главное — носов не вешать и нюни не распускать. Ну, пока, вечером забегу.
Алеша всмотрелся в крохотный холмик, едва приметно желтевший почти перед самым проволочным заграждением противника. Там скрывался дзот пулеметного расчета первого взвода, куда ушел Саша Васильков. Тени от облаков то закрывали холмик, и тогда он сливался с такой же выгоревшей до желтизны равниной вокруг, то открывали, выдавая спрятанный там дзот.
«Неужели знают немцы, что там стоит наш пулемет? — тревожно подумал Алеша. — Он же совсем близко от них, всего каких-нибудь сотни две метров».
Разморенную жарой тишь прорезал какой-то совсем неясный и смутный звук, совершенно чуждый привольному безмолвию и белесым облакам, так мирно и неуловимо плывшим по знойному небу. Насторожась, Алеша прислушался и через секунду не слухом и не сознанием, а всем, что скопилось в нем за эти двое тревожных суток, совершенно отчетливо и ясно понял: идут немецкие самолеты.
— Воздух! — прокричал кто-то совсем рядом, и этот полный беспокойства возглас в разных местах тут же повторили несколько голосов.
Самолеты еще не показались, но было слышно, что идут не один, не два и не пяток, а множество самолетов. И это, несомненно, была не какая-нибудь разведка или очередной беспокоящий налет, а начало большого наступления.
— Расчет, в укрытие! — звонко прокричал Чалый и, вбежав в дзот, сердито кинул Алеше: — В блиндаж!
— Так я же дежурный, товарищ сержант, — заговорил было Алеша, но Чалый метнул на него такой взгляд, что Алеша пулей выскочил в ход сообщения. Он хотел сразу же нырнуть в блиндаж, но любопытство пересилило, и он, став в углу траншеи, всмотрелся в помутневшее небо. В разных местах резко и отрывисто застучали зенитки, и тут же из-за обширного с холодной синевой облака выплыла первая стая бомбардировщиков. Их было не менее тридцати, а из-за облака доносился гул еще множества моторов. Такого большого количества бомбардировщиков Алеше еще не приходилось видеть.
— Сбит! — вскрикнул он, увидев, как шедший впереди бомбардировщик накренился, повернул в сторону и резко пошел вниз. Когда за ним, так же ревя моторами и валясь набок, ринулись и другие бомбардировщики, Алеша замер и на мгновение закрыл глаза. Это было излюбленное фашистами выстраивание в круг перед заходом в атаку.
Зенитки били все ожесточеннее и чаще. Широкую полосу неба испятнали белесые шапки взрывов. Один самолет вывалился из круга и густо задымил. Вспыхнули и косо пошли к земле еще два бомбардировщика, потом еще один, но остальные, словно связанные невидимыми нитями, один за другим с оглушающим ревом ныряли к земле. Темными каплями, неуловимо разрастаясь в размерах, полетели вниз бомбы. Разом вздрогнула, сотряслась земля. Там, где располагалось наше боевое охранение, огненно-черным разливом полыхали взрывы.
Еще ревели и взвывали бомбардировщики, а вой и грохот бомб прорезали новые резкие и частые взрывы.
Гаркуша первым из всего расчета устремился к просвету амбразуры. Впереди по-прежнему взрывы кромсали землю, но дыма и пыли стало меньше, и в грязном сумраке вновь открылись позиции нашего боевого охранения. Всего-навсего за какие-то десять минут они стали неузнаваемы. Вся неширокая полоса самой ближней от противника земли, где совсем недавно весело зеленела ревниво оберегаемая солдатами молодая травка, была теперь сплошь черной.