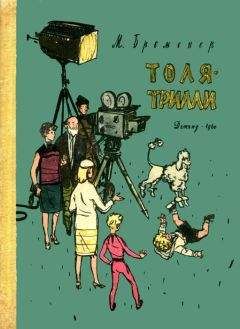Марк Бременер - Присутствие духа
Воля остался во дворе с Леонидом Витальевичем.
— Ветрено. Сыро. Промозгло, — сказал учитель, как бы одолевая одну за другой три крутых ступеньки. — А можно короче сказать: непогода. Странно, что нет еще существительного «нежизнь». Ну, надо идти…
Но он не ушел, а заговорил, мягко и внятно, о том, как опасно для человека — какова бы ни была его цель заявлять во всеуслышание то, что противно его природе, несовместимо с самой его сущностью…
Воля слушал его невнимательно, не вникая в смысл, и почему-то вспоминались ему старые книги, которые он, случалось, перелистывал: с твердым знаком, с фитою, с буквой «ять». Иногда Леонид Витальевич останавливался, ожидая чего-то от Воли, и Воля вставлял:
— Угу, угу…
— Мне хочется, чтоб вы знали: говоря то, что противно нашей природе, мы изменяем свою природу — незаметно, невольно…
Леонид Витальевич внезапно заметил, что Воля невнимателен, а Воля увидел, что он это заметил.
— Ну, так, — сказал учитель, раньше чем Воля успел сообразить, чем бы сгладить неловкость. — Не провожайте меня, пожалуйста, вам потом тоскливо будет возвращаться одному.
А Воля и не намеревался его проводить, он сделал уже шаг к дому, и оттого ему стало еще более не по себе от этих слов.
Глубокой ночью, когда и мать в комнате, и все в доме давно спали, Воле, лежавшему без сна с закрытыми глазами, показалось, что Гнедин на раскладушке ворочается осторожно, зевает, вздыхает. Воля не решился его окликнуть, но сам тоже — нарочно медленно — перевернулся на другой бок, протяжно вздохнул… Вечером он не успел поговорить с Евгением Осиповичем — легли рано, — а на рассвете Гнедин должен был уйти.
— Воля, — позвал Евгений Осипович так тихо, что Воля несколько мгновений не отзывался, гадая, услышал ли на самом деле свое имя или это только почудилось…
Через минуту они уже говорили шепотом, и Воля рассказывал вперемежку, как пришла, а потом пропала Машина бабушка, про то, как пытались выручать Машу, вспомнил день, когда они с Бабинцом услышали в сводке Совинформбюро о комиссаре партизанского отряда товарище Г.
— Это не про вас было?..
— Может быть… Возможно, что обо мне.
А Воля уже спешил дальше, его волновало, что думает Гнедин о споре Леонида Витальевича с Бабинцом, и второпях он спросил не так, как собирался было («Кто, по вашему мнению, прав?»), а по-мальчишески несолидно:
— Вы за кого?!
Гнедин стал отвечать ему едва уловимым шепотом. И Воля внимал с трепетом, ему казалось, что Евгений Осипович говорит так тихо, не только опасаясь кого-нибудь разбудить, но и потому, что касается сейчас самых заветных тайн борцов с фашистами…
— В борьбе это, бывает, приходится: забыть о себе, действовать под чужим именем, свое, если надо, отдать на поругание. Это не должно тебе казаться неправильным, невозможным — бывает необходимо. — Гнедин долго молчал и, когда Воля не ждал больше продолжения разговора, добавил: — Но все каждый раз, в каждом новом случае, надо решать заново — знать, чем в этот раз жертвуешь и для чего… Не в общем порядке! — произнес он вдруг намного громче прежнего. И повторил, как бы отказываясь от чего-то наотрез: — Не в общем порядке, нет.
Что значили эти слова, если примерить их к поступку Леонида Витальевича, к его спору с Бабинцом, Воля не знал. И он сказал бы Гнедину о том, что не знает, но тот уже снова дремал — Волин шепот не задевал его слуха.
Потом, все еще не засыпая, Воля лежал и думал о Леониде Витальевиче. Не о том, прав он или неправ, а о том, что теперь с ним будет… Ему было за него тревожно и было его жаль.
Сон не приходил, и Воля стал нарочно вспоминать разные давние пустяки, перескакивая с одного на другой, помогая мыслям спутаться, приближая мало-помалу миг, когда наступит забытье.
…Он очнулся от пугающе отчетливого шепота, открыл глаза. Гнедин склонился над ним:
— Спасибо тебе за Машу. И дальше, прошу, не забывай ее. Отряд наш, наверно, перебазируется поближе к вам. Знай: тогда — зимой уж, думаю — я пришлю за ней, чтоб ее переправили в лес. Ну… желаю тебе присутствия духа!
«А я завтра у Маши буду», — собирался ответить Воля, но так сильно, так неотвратимо и неотделимо ни на секунду хотелось спать, что он лишь веки прикрыл, кивнул неуклюже, показывая: слышал, понял.
Евгений Осипович пожал в темноте прощально его локоть и, показалось Воле сквозь сон, снова лег…
Но утром, встав рано, раньше, чем поднялась мать, Воля увидел, что Гнедина рядом уже нет. Раскладушка была сложена и прислонена к стене.
Воля подошел к окну, отодвинул занавеску: утро начиналось тусклое. Он отправился к Маше.
Вяло капал дождь, словно бы иссякая, кончаясь. Прохожие были редки. «Седьмое ноября!..» — вспомнил Воля.
«Не будет сегодня демонстрации и флагов…» — подумал он и сейчас же на здании, где помещался до войны горком комсомола, над балконом третьего этажа, увидел красный флаг.
Неделю или полторы Леонид Витальевич не подавал о себе вестей, и мать считала, что Воля должен пойти к нему, а Бабинец не позволял.
— Нет никакого смысла, — объяснял Микола Львович. — Он ведь перебрался к кому-то. Смысла нет, а опасность есть: в квартире его, вполне возможно, устроена засада.
И Воля послушал Бабинца, не стал ему перечить. Это озадачило Екатерину Матвеевну: прежде она не замечала, чтобы Микола Львович имел такое влияние на сына.
Вскоре Екатерина Матвеевна встретила на улице Римму Ильиничну, и та рассказала, что Леонид Витальевич никуда не успел перебраться: в ночь на седьмое ноября он был арестован; она осталась одна.
О засаде Римма Ильинична не упомянула ни словом, но Бабинец считал все-таки вероятным, что за квартирой учителя следят, и Екатерине Матвеевне не советовал, а Воле не велел навещать Римму Ильиничну.
И снова Воля подчинился, не споря. Мать, не знавшая, что Бабинец руководит ее сыном не только по праву старшего, про себя отметила это…
Может быть, у Миколы Львовича были данные о том, что майор Аппельт собирается с кем-то беседовать на темы, интересующие подпольщиков, а может быть, Микола Львович хотел приучить Волю к дисциплине — во всяком случае, он почти не разрешал ему отлучаться из дому.
Эти дни были для Воли мучительно тяжелыми, тоскливыми. Он знал, что немецкое наступление под Москвой, судя по всему, остановлено, знал и помнил, что невдалеке, где-то на территории соседней области, борется с врагом отряд Гнедина, что Маша в безопасности, а сам он — подпольщик, «все были на своих местах, и он был на своем месте тоже».
Все это было так, именно и точно так, и все-таки терпению его, казалось, пришел конец…
Как-то он вошел в комнату, где сидели мать и Прасковья Фоминична, и тетя Паша, завидя его, сразу смолкла. Он успел только услышать:
— …и уже раздетая, перед расстрелом, как крикнет: «Мальчишки, отомстите за нас!» Тут…
Оборвав себя на полуслове, тетя Паша сказала Воле:
— Ничего для тебя нет интересного, это мы, бабы, языки чешем…
— Я знаю, о ком вы сейчас, — медленно проговорил Воля. И добавил, не помня, от кого услышал впервые эти слова, убежденный в неоспоримой их истинности: — Если одни люди должны были это вынести, то другие должны, по крайней мере, это выслушать!
А мать глядела на него внимательно и чуть со стороны вроде бы. Так она смотрела на него, когда он стоял на ветру среди тех, кто хотел проводить взглядом грузовики с обреченными на гибель, когда, переломив в себе что-то, подчинился недавно Бабинцу, — и так, будто узнавая о нем нечто важное и новое, она смотрела на него сейчас, когда слова Леонида Витальевича он повторил как свои.
— …полицай один молодой засмеялся: «Нету мальчиков ваших!» — продолжала тетя Паша негромко, как до Волиного появления. — «Не на кого вам надеяться». И — все!
— А я ведь есть, — проговорил Воля, не сомневаясь в том, что до него сейчас дошли последние слова Риты. — Есть…
В этот день снова произошел разговор майора Аппельта с его молодым другом, и Воля понял этот разговор, не пропустил в нем ни слова и ни слова не забыл.
Опять, как в первый раз, собеседник майора редко подавал голос, так что поначалу казалось даже, будто майор Аппельт говорит сам с собой…
Он признался, что его немного тревожит, — немецкие власти бывают иной раз ненужно жестоки с местными жителями. Подобные действия, он опасается, могут иной раз озлоблять население освобожденных территорий.
— У меня не было и нет сомнений в том, что необходимы твердость и решительность! — продолжал майор так, будто срочно потребовалось сказать об этом, в этом заверить, прежде чем вернуться к тому, что его тревожит. — Разумеется, без решительности и последовательности не удалось бы достигнуть, к примеру, очищения освобожденных территорий от евреев. Но мне известен и такой факт: девочка попадает в гетто, потому, что ее сочли похожей на еврейку. После того как были получены доказательства ее нееврейского происхождения, она все же не была отделена от тех, кто подлежал ликвидации… Достойно это сожаления?