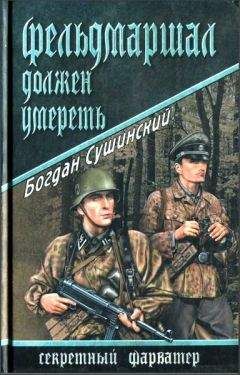Богдан Сушинский - На острие меча
– Увы, нынче мы не из Варшавы, – попытался уточнить Радзиевский.
– Неправда, пан ротмистр, неправда! – помахал коротким волосатым пальцем у него перед носом трактирщик. – Все желанные гости – только из Варшавы, в которой сам Ялтурович, прошу прощения, так никогда и не побывал.
– Париж, как я погляжу, здесь не в почете, – заметил Гяур и, не став дожидаться дальнейших приглашений, первым уселся за указанный трактирщиком стол.
– Э, что вы знаете за Париж?! Париж, молодой человек, это как мечта, которую, прошу прощения, могут позволить себе только варшавяне. Здесь, в Каменце, о Париже может мечтать только человек, потерявший всякий стыд перед памятью о своих предках. Каждый должен мечтать только о том, что ему хотя и недоступно, но позволительно.
– Странная философия, – устало заметил Гяур, не желая выслушивать продолжение этого спора.
– Нам с вами не понять философию каменецких трактирщиков, – уселся рядом с ним Радзиевский. – Это выше человеческого понимания.
– Янкель, – обратился тем временем трактирщик к оркестранту. – Побойся Бога, Янкель: ты же не на похоронах у Мойсиловича! Скрипач, прошу прощения, или играет, или молится. Так делай же что-нибудь одно!
Не возразив ему ни словом, скрипачи мигом прервали только им ведомую, бесконечную мелодию каменецких предместий и заиграли бойкую венгерскую польку, так полюбившуюся местным беглым мадьярам.
– Рассаживайтесь, господа офицеры, – продолжал суетиться Ялтурович, хотя все, кроме Рошаля, уже уселись. – Лучший стол в лучшем, прошу прощения, трактире! Это я вам говорю – Хаим Ялтурович, бедный подольский еврей, никогда не бывавший в Варшаве.
Однако Рошаль все еще продолжал стоять посреди зала, брезгливо посматривая в сторону стола, за которым сидели слепая старуха и девушка. Как человек, пригласивший полковников в этот трактир, он чувствовал себя виноватым в том, что две нищенки самим присутствием своим будут сводить на нет их приятную беседу.
– Послушайте, Ялтурович, я еще могу понять, почему здесь сидит эта гулящая смуглолицая нищенка-девка, – проговорил он с сильным французским акцентом, едва подбирая польские слова. – Но с какого это времени вы решаетесь усаживать офицеров за стол, стоящий рядом с безобразной слепой старухой, – этого я объяснить себе не могу.
– Но женщины, прошу прощения, сами выбрали этот стол.
– Мало ли что они выбрали, Ялтурович! Кто тут хозяин: ты или кто-то другой? Если все еще ты, тогда почему эту гадкую старуху я вижу здесь уже в третий раз? Может, ты все-таки выпроводишь ее отсюда?! А еще лучше – вообще отвадишь от своего трактира?!
– Пан офицер, пан офицер! – замахал руками Ялтурович, испуганно поглядывая на посетительниц. – Зачем вы так нервничаете? Не обращайте на них внимания: они пообедают и уйдут. Они, прошу прощения, действительно часто обедают у меня. Так я вас спрашиваю: кому от этого плохо?
– Ага, значит, эта слепая старуха и эта цыганка – они тоже из Варшавы? – язвительно улыбнулся квартирмейстер.
– Побойтесь Бога, – почти шепотом пытался увещевать француза трактирщик, стараясь в то же время отвести его подальше от слепой. – Не говорите так об этой слепой женщине.
Князь Гяур непонимающе оглядел присутствующих и, поняв, что следует вмешаться, схватился рукой за меч, однако полковник Сирко сдержал его:
– Не нужно, это не тот случай, когда что-то решает меч, – загадочно как-то, вполголоса произнес он. – К тому же мы пропустим то, ради чего Всевышнему понадобилось устроить эту стычку вполне зрячей слепой и полного слепца, считающего себя зрячим. В крайнем случае я сам вмешаюсь: у нас с поляками свои давние, казачьи «любезности».
– Никакая она, прошу прощения, не нищенка, – продолжал тем временем вещать предельно вежливый трактирщик. – Это же Ольгица! Она из очень знатного польско-чешского рода. Настолько знатного, что, говорят, отец ее – потомок римского и чешского короля Вацлава IV, того самого, который одно время даже был императором Священной Римской империи [27] .
– Эта слепая нищенка – из знатного, императорского?! – расхохотался де Рошаль, не желая скрывать своего отношения к Ольгице. И только теперь Ялтурович понял: прежде чем войти в его трактир, квартирмейстер уже успел пропустить бокал-другой вина. Только это и прощало его в глазах Ялтуровича, испытывавшего не наигранный, а вполне естественный, почти мистический страх перед зачастившей в его трактир слепой женщиной. – Не такого ли знатного, как ваш собственный род, пан «варшавянин» Ялтурович?
– Но, прошу прощения, пан квартирмейстер…
– Кроме ясновельможных графов Потоцких, в этом провинциальном городке нет и не может быть людей знатного происхождения! – голосом римского трибуна провозгласил де Рошаль. – Не считая, конечно, прибывших сюда на службу господ офицеров, – тотчас же исправил он свою ошибку, вспомнив, что один из прибывших с ним полковников наделен титулом князя.
– Графиня Потоцкая – ваша, прошу прощения, покровительница, ясновельможный; мы это знаем, – слишком двусмысленно для данной ситуации, но с приличествующей случаю вежливостью заметил Ялтурович. – Как знаем и то, что пани Потоцкая, как никто другой, часто бывает в Варшаве. Есть же на свете, прошу прощения, счастливые люди!
– Так выставишь ты, старый проходимец, этих нищенок или нет? – уже едва сдерживал гнев де Рошаль. – Что ты все хвостом передо мной виляешь?
54
– Не спорьте с ним, пан Ялтурович, – вдруг раздался громкий властный голос Ольгицы. – Но и не бойтесь его. Просто не обращайте на этого захмелевшего чужеземца внимания.
Заслышав ее слова, мгновенно затихли и застыли с бокалами в руках подвыпившие горожане; остановилась посреди зала служанка с подносом, на котором стояли два графина с вином; повернули головы Гяур, Сирко, Улич и Хозар. В трактире вдруг воцарилось благоговейное, словно в храме перед проповедью, молчание.
– В своей жизни этот черный человек не руководствуется ничем, кроме алчности и гордыни. Для него не существует ни святых мест, ни святых слов. Не говоря уж о доброте людской.
– Что?! – взорвался де Рошаль. Но только на этот гневный окрик-вопль его и хватило. – Что она там бормочет, трактирщик?!
– Ах, если бы я мог слышать то, что эта женщина хотела сказать на самом деле! – пожал плечами Ялтурович.
– Он приехал сюда, потому что послан одним человеком из Варшавы, – все также спокойно и властно продолжала слепая. – Специально для того, чтобы вершить здесь свои подлые иудины дела. Однако недолго… Мне жаль его.
– Ты, нищенка!.. Тебе жаль… меня?! Нет, вы слышали, Ялтурович, ей жаль меня! – нервно, словно в приступе, расхохотался де Рошаль, но никто, ни один из присутствующих, не решился ни поддержать квартирмейстера, ни вслух возмутиться его недостойной офицера стычкой с несчастной слепой женщиной. Все в онемении наблюдали за странным поединком.
– Оставьте его, пан Ялтурович, – все так же спокойно сказала Ольгица, когда трактирщик попытался задержать руку на эфесе сабли квартирмейстера. – Дайте ему выхватить оружие, – продолжала она, поднеся кубок с красным вином на уровень повязки, словно бы рассматривая его на свет. – Но прежде, чем он успеет взмахнуть ею, я успею предречь, что жить этому человеку осталось ровно десять дней. Ты слышишь меня, чужестранец?! Ровно десять! Так считай же их, помня, что змея уже на паперти!
– Змея уже на паперти?! – не удержался кто-то из завсегдатаев, зная о том, что Ольгица обладает мощным даром предвидения.
Что это значит?
– Слышали: она уже на паперти?! – эхом прокатилось по трактиру.
Люди повторяли слова всяк на свой лад: одни – переспрашивая, не ослышались ли; другие – пытаясь понять или хоть как-то истолковать их смысл, третьи – просто так, в недоумении: что же в действительности может означать это странное Ольгицыно: «Змея уже на паперти»? И какое это имеет значение в ссоре, затеянной майором-квартирмейстером?
А когда поняли, что из уст Ольгицы это предсказание могло сорваться, только будучи страшным наговором колдуньи, сочувственно зароптали:
– Перекрестись, Ольгица!
– Сжалься над человеком!
– Осени себя Святой Богородицей.
Сам же Рошаль не желал ни задумываться над предсказанием Ольгицы, ни прислушиваться к роптанию мещан. Ухватив трактирщика за плечо, он буквально отшвырнул его от себя, расчищая дорогу к столу предсказательницы, и, выхватив саблю, ступил к ней.
Девушка вскрикнула, однако не вскочила и не бросилась вон из-за стола. Наоборот, мигом пересела в стоящее рядом со старухой деревянное кресло и, откинувшись на спинку, уставилась на майора с таким напряжением, что даже Гяуру вдруг почудилось, будто глаза девушки излучают какое-то огненно-красное демоническое сияние, словно глаза волчицы, подкрадывающейся в темноте к своей беспечной жертве.
Сильная молния отпечаталась на оконном стекле как раз в то мгновение, когда де Рошаль занес саблю, чтобы опустить ее на седовласую голову старухи. Однако Гяуру показалось, что молния вспыхнула не за окном, а здесь, в зале, пронзив его своды и пол, опалив при этом клинок квартирмейстера.