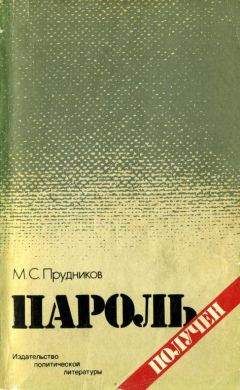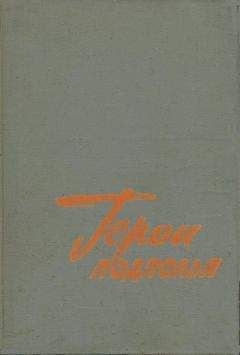Евгений Березняк - Пароль «Dum spiro…»
Только бы не потерять сознание.
«В парке Чаир распускаются розы.
Снега белее черешен цветы…»
Удар по голове… Цветы, цветы, цветы… Вспухшие, искусанные в кровь губы.
«Снятся твои золотистые косы.
Снится мне море, и солнце, и ты…
Снова удар. Стол, гестаповцы и жандармы поплыли, завертелись в оранжевой карусели. Боль исчезла. Чьи-то мягкие руки подхватывают и несут меня. Прихожу в себя на полу. Жандарм равнодушно, привычно, словно неодушевленный предмет, поливает меня ледяной водой.
Широко расставив ноги, надо мной раскачивается, как маятник, главный мой мучитель:
— Жиф курилька! Ну что? Будем молчайт, говорийт?!
Спокойно, спокойно! Признание должны вымучить — тогда в него поверят. Кто это сказал? Старый казак Шайтан славному гетману Богдану? А может, Олег?
Снова бьют. Что ж, вымучивали долго, старательно. Кажется, пора…
Превозмогая страшную слабость, я стал подниматься.
Тело ныло. Боль снова возвращалась, колючими иглами пронизывая мозг.
Гестаповец жестом подозвал жандармов.
Я поднял руку:
— Не надо. Хватит. Деваться некуда. Я — советский разведчик.
— Гут, гут. Отвечайт на вопросы! Где группа?
— Я один.
— Доказательства?
— Мои вещи и документы.
— Вещи и документы?
— Да. Я — марш-агент.
Во всех разведках мира есть такие люди — связники, «почтальоны». Их обычно посылают через линию фронта с ограниченной задачей: передать уже действующим группам батареи радиопитания, деньги, взрывчатку и т. д.
Вещи, найденные при мне, как раз и выдавали связника.
Поверит или не поверит? Если поверит, значит Гроза и Груша на воле. Бесконечной кажется минута. Но вот офицер потянулся к телефонной трубке. «Наверху» — это видно по его чуть заметной сухой улыбке — довольны.
— Если все правда, — обращается он ко мне, — можешь рассчитывать на доброту фюрера. Но боже сохрани, — он так и сказал — «боже сохрани», — водить гестапо за нос.
Комендант на радостях расщедрился. Мне разрешили умыться. В камеру принесли обед из жандармской кухни. Лапшу со свининой, пиво, даже баночку искусственного меда. Дело было сделано.
Завертелась, закружилась карусель тайной полиции рейха. 22 августа меня отвезли в Сосковец. Браслетки с рук не снимали. Вечером — катовицкое гестапо. Снова допрос. На этот раз с бо́льшим интересом к деталям. Допрашивал молодой гестаповец в штатском. Переводила девица. Маленькая блондинка, как только раздавалось: «Фрейлейн Вэра!» — вздрагивала, вскидывала голову. В ее глазах были и собачья преданность патрону, и неистребимое чувство страха. На меня она поглядывала с нескрываемым любопытством, даже с каким-то сочувствием, хоть и не без злорадства. Дескать, не одна я такая на белом свете. Есть и другие. Офицер вел допрос в стремительном темпе. Но я уже вошел в роль, не сбивался.
— Кто такой?
— Марш-агент, послан для связи.
— Задача?
— Встретиться в Кракове с представителем группы. Передать ему деньги, радиопитание. Получить пакет и к пятому сентября возвратиться к своим.
— Адреса? Явки? Где назначена встреча?
— Никаких адресов у меня нет. Встреча на краковском рынке Тандета.
— Точнее. Сроки?
— С двадцать четвертого по двадцать седьмое августа.
— Приметы? Пароль?
— Ко мне должен подойти мужчина среднего роста, средних лет. Он знает мои приметы: из английского бостона темно-синий костюм. Такого же цвета кепи. Из верхнего кармана пиджака виднеется розовый платочек. Пароль: «Когда вы выехали из Киева?» Отзыв: «В среду».
— Как попал в марш-агенты?
— Это длинная история, господин офицер. Да вы и не поверите.
— Ну?!
Тут я сообщил новые подробности по одной из легенд. Я — Гордиенко. Родом из Кировограда. Украинец. Работал при немцах секретарем в украинской полиции. Не успел эвакуироваться с вермахтом, так как Кировоград внезапно был окружен Советами. Перед приходом красных раздобыл чистые документы. С ними перебрался в соседний район. Сам явился в военкомат. Мобилизовали. Вскоре отправили в специальную часть в Житомир. Оттуда в Тернополь. Из Тернополя на самолете забросили в тыл. Хотел сразу явиться, да не успел.
— Почему не заявили об этом в самом начале?
— Кто бы поверил?
— И я не верю…
— Как вам угодно. Теперь уже все равно. Что ни вопрос — ловушка.
— Где приземлился? С кем? Фамилия? Шнель! Живо!
Я свое:
— Выброшен один. Приземлился в лесу западнее станции Псары.
Ночь просидел я в одиночке катовицкого гестапо. Утром двадцать четвертого меня снова привели к знакомому следователю. Тот вскинул на меня свои белесые глаза, заговорил отрывисто, сердито. Фрейлейн Вера встрепенулась и пошла выстреливать фразу за фразой. Я узнал, что ее шеф охотно и даже лично расстрелял бы меня, но приказ есть приказ. И, к большому сожалению шефа, меня сейчас отправят в Краков. Впрочем, в краковском гестапо шутить не любят.
После такого напутствия меня побрили, постригли, посадили в уже знакомую черную машину.
ВСТРЕЧА С ГОРОДОМ
…Шуршат шины. С каждым километром все ближе Краков. Разве такой представлялась мне встреча с этим городом? Стиснутый с обеих сторон двумя молчаливыми молодчиками (в машине было их еще двое), я сидел безоружный, со скованными руками. Правда, три-четыре дня выигрывал наверняка. В моем положении и это было немало. Но в остальном мог надеяться только на случай. А я знал уже, что случай сам по себе срабатывает редко. У случая много союзников. Прежде всего — интуиция.
И конечно, нужна решительность, постоянная готовность идти на риск, вера в удачу. И умение выжидать, терпение, точное знание предмета.
Мой предмет — Краков.
Мысленно вновь и вновь обхожу его улицы, площади. В сотый раз заглядываю на Тандету. Город ощущаю почти физически.
Сукеннице…
Университет…
Городская библиотека…
Мариацкий костел…
Таинственный Вавель — замок первых польских королей, теперь — резиденция обер-палача Польши, генерал-губернатора Франка. Мне кажется, я мог бы обойти эти места с закрытыми глазами, хоть никогда не бывал в Кракове.
Здесь вынужден сделать отступление. Пусть простит мне читатель возможные отклонения, нарушающие стройность рассказа. Без них не обойтись, ибо пишу не вымышленное произведение со строго продуманной композицией, а повесть своей жизни. Любая жизнь — не укатанная прямая дорога. Вот и теперь оставляю где-то на полдороге в Краков гестаповскую машину, моих ангелов-хранителей, чтобы рассказать о человеке, которому я больше всего обязан как разведчик.
Настоящее его имя я узнал сравнительно недавно. А в разведшколе нашего учителя звали Василием Степановичем. Когда пришло мне время выбирать себе конспиративное имя, я тоже — так велико было подспудное желание во всем походить на него — стал Василием Степановичем. Василий Степанович Михайлов. Или просто «капитан Михайлов». Под этим именем знали меня бойцы группы «Голос» и польские друзья до первой нашей послевоенной встречи в 1964 году, когда уже можно было открыть друг другу свои настоящие имена.
Василий Степанович был начальником отделения и преподавателем разведшколы, куда я попал в начале 1944 года. Наш учитель, сдержанный, немногословный, не любил рассказывать о себе и, приводя во время лекций и практических занятий различные случаи, которые он считал полезными и поучительными, никогда не ссылался на свой личный опыт. Уже первые практические занятия привели меня к неутешительному выводу: в разведчики совсем не гожусь. Прошел, к примеру, состав. Изволь подсчитать и запомнить, сколько в нем вагонов, открытых платформ, цистерн. Встретился с нужным человеком — мгновенно зафиксируй цвет волос, глаз, покрой костюма, узел на галстуке. Еще надо было уметь многое: «читать» город по карте, запоминать (записывать нельзя) десятки, сотни названий незнакомых улиц, сложные адреса, пароли. Тут я растерялся. Потому что не был наделен от природы хорошей памятью.
Дело прошлое, но… что было — то было. Несколько дней ходил сам не свой. Как поступить? Имею ли право с такой памятью оставаться в разведшколе? Эта мысль не давала покоя. Сижу на лекции. Слушаю — не слушаю. А в голове сами собой слагаются строки рапорта на имя начальника школы. Так, мол, и так: «Осознавая свою непригодность, прошу отчислить меня из школы и отправить на фронт или в партизанское соединение».
Не знаю, что именно бросилось в глаза преподавателю: мой отсутствующий вид, неуверенность. Как бы там ни было, после лекции он пригласил меня к себе. Не помню, о чем мы говорили вначале. Но отлично помню тон беседы — искренний, доброжелательный настолько, что я возьми да выложи все то, что мучило меня в последние дни. Слушал Василий Степанович внимательно Ни разу не перебивал мою сбивчивую речь и ничем внешне не выдавал своего отношения к ней.