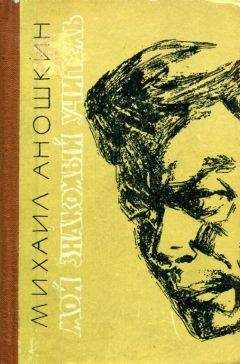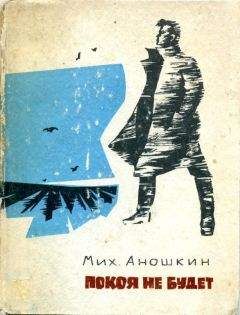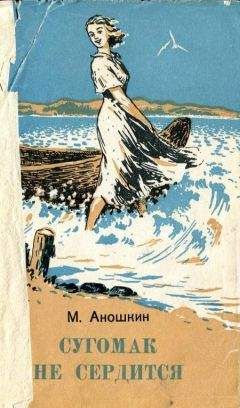Михаил Аношкин - Рубежи
Когда достигли середины реки, на увал выползла самоходка и открыла огонь. Паром в этот тихий вечерний час был на реке единственной мишенью. Снаряды падали в воду то спереди, то сзади, то с боков. Ребята налегли на весла, понимая, что наше спасение в маневренности. И мы бы, наверное, проскочили, если бы фашисты не применили бризантные снаряды. Они оглушительно лопались над головой и сыпали сверху горячие осколки. Попал осколок в тяжелораненого старшину — опять в голову. Выпустил из рук весло и повалился в воду боец Трусов. Легкораненые, те, кто посмелее, попрыгали с парома. Ойкнула Нина, схватилась за грудь. В глазах ужас. Упала на мертвого старшину. Глаза ее так и остались открытыми, хотя уже ничего не видели. Я было кинулся к ней, но лопнул еще один снаряд. Левую ногу пронзила нестерпимая боль. Я упал на паром и потерял сознание…
Первой мыслью, когда я пришел в себя, была мысль о Нине. Я вдруг отчетливо увидел ее полные ужаса глаза и застонал не столько от боли, сколько от сознания того, что Нины больше нет.
Я лежал в палатке. Батальонный врач Петрулевич, склонившись надо мной, промывал рану спиртом. Словно издалека донесся до меня его ласковый голос:
— Вот и славно! Ничего, потерпи малость, сейчас забинтую.
В медсанбат меня привезли уже ночью. Сразу положили на операционный стол. Миловидная девушка прикрыла рот и нос пропитанной хлороформом марлей и попросила, как маленького ребенка:
— А теперь мы посчитаем. Раз, два… Вслух, вслух.
Стал считать вслух, добрался до двенадцати и надолго провалился в забытье. Когда открыл глаза, не сразу сообразил, что со мной… Лежал на спине, видел светлое утреннее небо. Мягко потряхивало — значит, куда-то везут. Услышал тарахтение колес о булыжник — везут на пароконке. Лежу на скошенной траве. Увядая, она хорошо пахнет, как у нас на покосе. Голова гудит, во рту противно, тошнота подступает к горлу. Левая нога нестерпимо горит. Я застонал. Надо мной склонилось участливое морщинистое лицо пожилого усатого солдата. Он достал краснобокое яблоко, обтер о гимнастерку и протянул мне:
— На, пожуй. После наркоза завсегда мутит, по себе знаю.
Живительный яблочный сок освежил рот, и мне в самом деле полегчало. За всю дорогу возница не обмолвился больше ни словом. Только мурлыкал себе под нос украинские песни.
К вечеру приехали в Люблин. Госпиталь размещался в здании из красного кирпича, где раньше была гимназия. Два дюжих санитара перевалили меня на носилки и затащили на третий этаж в маленькую комнатушку — палату. Числился я тяжелораненым. Тех, у кого раны полегче, устраивали в коридорах: госпиталь был переполнен.
Палата совсем маленькая, но в нее как-то ухитрились втиснуть четыре койки. Две из них пока пустовали, на третьей лежал старшина с тяжелым ранением в живот. Он мучился от болей, скрипел зубами и шепотом матерился или тихо и жалобно пел. Всегда одну и ту же песню: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли…»
За окнами забухали зенитки. Снова стервятники. Как они надоели за войну. Но одно дело пережить налет здоровому, другое — прикованному к койке. Те же дюжие санитары молча отнесли меня в убежище, а после налета подняли в палату. От толчков на лестнице нога разболелась нестерпимо.
И я зарекся — в следующий раз отошью санитаров. Старшина, точно угадав мои мысли, посоветовал:
— А пошли ты их к бису! От прямого попадания и в убежище не спасешься. Давно воюешь?
— С первого дня.
— О! — воскликнул старшина. — Да нам с тобой сам черт не брат! Мы и похуже видели кое-что, га?
Утром в палату принесли двух обгоревших танкистов. На их руки и лица было страшно смотреть. Сестра заботливо уложила их, накрыла до подбородков простынями.
Каждый день палату посещала пани Ядвига, маленькая, чистоплотная интеллигентная старушка. Она хорошо говорила по-русски, почти без акцента. Вообще пожилые люди в Польше почти все знали русский язык.
Пани Ядвига приносила в туеске спелую черешню, потом яблоки и груши. Расспрашивала о Советском Союзе. Помогала нам — то подушку подправит, то простыню подоткнет, то воды принесет.
Пани Ядвига была одинока. Муж умер перед тридцать девятым. Два сына сгинули без вести, когда фашисты напали на Польшу.
Старшина обнадеживал старушку, уверял ее: найдутся сыновья. На войне всякое случается, даже после похоронки некоторые объявляются. Могли и в плену затеряться. Да мало ли что могло с ними приключиться. Но непременно живы! У пани Ядвиги по-молодому блестели глаза, и она, кажется, начинала верить в то, что говорил старшина. После ухода старушки разгорался спор: танкист осуждал эту затею — зачем бередить чувства старой женщины? Она уже привыкла к потере. И ясно же — никогда сыновья к ней не вернутся. Были бы живы — дали бы о себе знать. А новое разочарование убьет ее. Старшина возражал: человек всегда должен жить надеждой!
В конце августа тяжелораненых, в том числе и меня, отправили в глубокий тыл. Была остановка в Гомеле. Потом повезли дальше. Куда? Было бы здорово, если на Урал. Но привезли нас в столицу Армении Ереван. Куда занесло! Там пробыл я до февраля сорок пятого и был демобилизован как инвалид войны.
…И вот снова Кыштым. Город казался постаревшим и как будто меньше и ниже стал. Навидался всяких городов, вот теперь и сравнивал. И одноэтажный, и улочки косогористые, и леса вокруг дикие. А все равно дороже всех на свете! Родной!
Взволнованный, вышел с вокзала. Гляжу, к станции спешит женщина. Росточка небольшого, пожилая и вроде знакомая-знакомая. Пригляделся — да ведь это Маргарита Федоровна Менщикова, наш добрый гений из педучилища! Сразу и не узнать — похудела сильно, усохла.
— Миша! — обрадовалась она. — Вот встреча-то! Ранен?
— Было…
— Заходи в училище. Непременно! А сейчас извини — спешу на поезд. Еду в Челябинск на совещание. Я теперь директор.
Первая встреча на кыштымской земле и такая приятная. Доброе предзнаменование.
Дома меня не ждали. Письма не написал, телеграмму не отбил. Доковылял до родной косогористой улочки, остановился у ворот отчего дома. Перевел дыхание, не в силах сдержать волнения. С замершим сердцем нажал кольцо-щеколду. Калитка отворилась, впуская во двор. Справа окно. Возле него испокон веков стояла швейная ножная машинка, мама часто на ней работала. Шагнул, глянул в окно, и надо же — мама сидела за машинкой! По наитию или услышав, что скрипнула калитка, она подняла голову и увидела меня. По-моему, не поверила своим глазам. Закрыла их, чтоб снять наваждение. Открыла вновь и быстро встала. Не успел я дошагать до сеней, как мама, плача, упала мне на грудь.
С отцом увиделся только на другой день. За годы войны он сильно сдал. Обнял меня и прослезился.
— Живой! — проговорил он, смахивая слезу. — В какой кутерьме побывал — и подумать страшно…
— Всяко было, отец.
— Ну, слава богу, вернулся. Нога-то ничего? Своя?
— Своя, батя.
— И ладно. А мы с матерью чуть что — как у нас там Минька? Нарыбачу окуньков, уху сварим — вот бы Минька с нами. Осенью ставили кадку с брусникой в подпол, тяжело все же, и опять — Минька бы помог. А баушка, когда помирала, шибко жалела, что больше не увидит тебя.
Я вернулся домой накануне Победы. Так окончилась моя военная одиссея.
С тех пор минуло более трех десятилетий. Но никакое время не обесценит и не сотрет пережитое. Оно напоминает о себе постоянно — бессонными ночами, нудными болями в ноге перед ненастьем, письмами фронтового командира Курнышева, дотошными расспросами внука, обостренной памятью о друзьях, не вернувшихся с поля боя… И чем дальше, тем чаще и больнее.
Да, все это было.