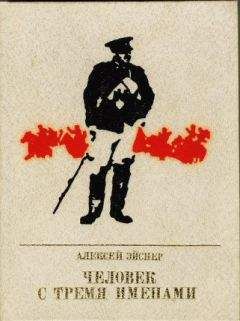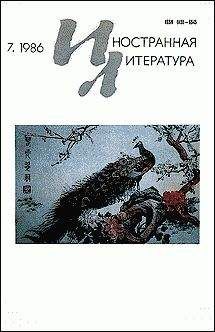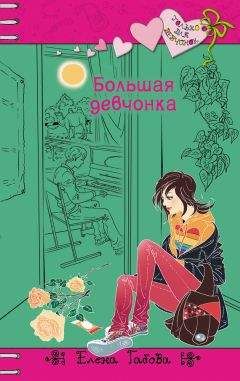Матэ Залка - Рассказы
Под балконом, как быстроногие чернокрылые жуки, шныряли лимузины, провода над улицей нервно дрожали, предвещая, что сейчас из-за поворота важно выплывет кузов троллейбуса.
Москва!
— Какая замечательная женщина! — пробормотал я, возвращаясь в свою комнату. Меня обступил покой моего холостого одиночества, которому я принес столько жертв в жизни, и, сев в раздумье за свой письменный стол, я предался воспоминаниям.
С Марусей я познакомился в восемнадцатом году, но особенно близко узнал ее только в тысяча девятьсот двадцатом, когда полк наш был переброшен из Сибири на польский фронт. В восемнадцатом году гражданская война проходила как бы на колесах, это была эшелонная война. Вагоны красногвардейских эшелонов были битком набиты, кроме бойцов, еще их женами и семьями, — «цыганщиной», — как шутя называли мы, штабные. Я был начальником штаба красногвардейского отряда и не раз официально протестовал против этого ненормального положения, но ничего поделать не мог.
— Легко тебе говорить, — возражали мне. — Ты — принципиальный бобыль.
Да, таким я был, действительно, уже и тогда.
В середине восемнадцатого года чехословаки оттеснили нас от железнодорожной магистрали, и остатки наших разбитых частей нашли себе убежище в гостеприимном отряде дедушки Каландаришвили. Вместе с ним мы партизанили все двадцать месяцев господства белых в Сибири.
Андраш Сабо и его молодая жена были в том же отряде. В тайге, среди сопок, среди невзгод партизанской войны, считалось в порядке вещей, что жена сопровождает своего мужа в боевых походах. Маруся в ту пору была совсем еще молоденькой девочкой, по уши влюбленной в своего Андраша, ради которого бросила отцовский дом, иркутскую гимназию и маленькую железнодорожную станцию между Красноярском и Нижнеудинском, где ее отец был начальником. Судьба столкнула ее с красногвардейским артиллерийским командиром Андрашом Сабо. Это была большая романтическая любовь русской гимназистки и черноглазого военнопленного — венгерца, красногвардейца.
В марте тысяча девятьсот двадцатого года я получил приказ сформировать из своего Интернационального партизанского отряда кавалерийский полк.
Апдраш Сабо был отменным артиллеристом. Полуторагодичная фронтовая служба, мое двухлетнее совместное пребывание с ним в плену и последние два года революционных скитаний спаяли нас крепкой дружбой. И вдруг между ними встала Маруся.
Товарищ Сабо дал свое принципиальное согласие на вступление в полк в качестве командира артиллерии, но с условием, что его жене будет разрешено сопровождать его всюду, куда ни последует полк.
— Как — «цыганщина»? Вы думаете, что это вам восемнадцатый год? — набросился я с возмущением на своего товарища и друга.
Андраш спокойно выдержал бурю моих упреков и, устремив на меня черные, неподвижные глаза, ждал, когда я успокоюсь. Потом он сказал:
— Моя жена не будет в тягость полку. Кроме того, я не могу отослать ее назад к отцу, который проклял ее.
— Начинается! — возразил я. — А что скажут остальные? Что, если каждый боец будет требовать от меня разрешения, чтобы с ним в полку была его курочка?
Сабо очень задело, что я назвал его жену курочкой. Похоже было на то, что мы расстанемся — и расстанемся не друзьями. Но в эту минуту в дверь салон-вагона кто-то постучал, и на мое приглашение вошел молодой аккуратный красноармеец.
— Мой муж тут? — спросил вошедший звонким мальчишеским голосом.
— Она? — спросил я, обращаясь к Сабо.
— Она, — кивнул артиллерист и улыбнулся. — Вы ведь знакомы.
— Ну, ладно, — сказал я и сам удивился поспешности своего решения.
Должен признаться, что никто ни единым словом не упрекнул меня впоследствии за то, что я сделал исключение для Марии Сабо. Правда, она редко попадалась мне на глаза. Я был поглощен заботами громадного марша, который мы проделали от Иркутска до Львова, можно сказать, с одной пересадкой. Пересадка была у Белой Церкви, где мы выгрузили своих четвероногих друзей и пересели в седла.
Во время знаменитого похода от Белой Церкви до Львова я лишь один раз наблюдал Марию Сабо. Она сидела по-мужски на низенькой сибирской лошаденке, кричала и бранилась: боевой парк нашей артиллерии увяз в низком заболоченном месте под Гдиновом. Мария Сабо приказала всем подводчикам сойти на землю и с большим знанием дела стала руководить освобождением застрявших в бездонной грязи повозок. Я спросил своего помощника, кем служит в артиллерии жена Сабо?
— Фейерверкером у третьей пушки, а также заменяет политрука. Боевая бабенка! Мужнина выучка.
«Молодец Сабо, не балует жену», — подумал я, и, странно, мне даже в голову не пришло, что, собственно говоря, молодец сама Маруся, сумевшая найти себе полезное место среди нас.
Что касается Андраша, то он был прославленным командиром батареи, настоящим конным артиллеристом, который не растерялся бы даже в том случае, если бы с целой батареей очутился за пределами нашего постоянно менявшегося фланга. Бывало, назревает конная атака, неприятель, потеряв терпение, ринется на нас, но Сабо со своей батареей выскакивает вперед и осыпает картечью неосторожного врага. Ни одного артиллерийского «недоразумения» с ним не было, и в полку существовало глубокое убеждение, что Сабо никогда не пошлет случайный снаряд в своих, как бы быстро ни менялось положение. Командир батареи пользовался в полку большой популярностью. О жене его никто мне не говорил ничего плохого. Обожженная солнцем и обветренная, она была похожа на изящного юношу в красноармейской форме, но все же не теряла своей женственности. Долго не выходила из моей головы эта картина: Мария Сабо, стоящая по колено в грязи под Гдиновом и распоряжающаяся хмурыми подводчиками.
Когда с поляками было заключено перемирие, мой полк стоял под Рудней. Меня вызвали в Житомир, где я получил приказ двигаться в боевом порядке на юго-восток в распоряжение штаба Южного фронта. У Кременчуга мы перешли Днепр и через Кобеляки шли по прямой на Синельниково, где я должен был явиться в распоряжение штаба фронта.
Полтавщина удивительно похожа на венгерские равнины: песчаные холмы напоминают Сабольч, а тополя, белые хаты с гнездами аистов, журавли колодцев, приветливый народ — настоящая венгерская пуста. И видавшие виды интернационалисты, большей частью венгерские крестьяне-батраки, удивленно таращили глаза при виде этого сходства. Но лирическому настроению положила конец Григорьевка. Пятый день мы шли по Полтавщине, чувствовали себя в глубине страны, и бдительность боевых охранений несколько ослабела. Остановились на ночевку в Григорьевке. На следующий день нам предстоял восьмидесятикилометровый переход. Рано утром полк был уже на ногах, когда вдруг в село примчалась наша батарея с пятью пушками.
— Где шестая? Где Сабо?
Последние дни артиллерия шла в авангарде, она не вошла в село, а остановилась в трех километрах от него на хуторе. Под утро, когда все спали глубоким сном, на хутор налетели бандиты. Это были махновцы, которые, как выяснилось впоследствии, уже несколько дней следовали за нами и выжидали удобного случая для поживы. На хуторе поднялась суматоха, но паники не было. Спас положение сам Сабо, вовремя выскочивший на крыльцо дома и созвавший к себе беспорядочно суетившихся артиллеристов. Но это было и причиной его гибели. В направлении властного голоса бандиты выпустили несколько пуль, и боевой командир свалился без звука.
Но положение уже было спасено.
Вскоре прибыла и шестая пушка, а перед ней на трех подводах раненые и убитые. На первой подводе лежал Сабо, в головах у него сидела жена. Была на ней все та же военная мужская форма, но теперь было видно, что это женщина. Полковой врач доктор Марвань в волнении бросился к раненому командиру.
— Ранение в живот.
Маленькая, почти незаметная дырочка, через которую медленно уходила жизнь. Сабо мучился страшно, его бескровное лицо было похоже на сжатый кулак, страдания сводили его в комок. Доктор Марвань посмотрел на меня, потом на жену Сабо. Она беззвучно заплакала, и раненый открыл глаза. Лицо его расправилось, засохшие губы разжались. Осторожно, как бы вдыхая пламя, он втянул в себя воздух. Глаза, казавшиеся бездонными колодцами, устремились на меня, и я невольно подошел ближе.
— Андраш! — сказал я тихо.
Доктор сделал знак сестре, что менять повязку не надо, смерть наступит через несколько минут. Я нагнулся к Сабо.
— Товарищи… Марусю… дитя… сына… не покидайте…
На григорьевском кладбище оставили мы дорогие жертвы своей неосторожности.
Полтавская идиллия была нарушена. Полк двигался дальше.
Был конец сентября. Мы давно уже достигли линии врангелевского фронта и под Малыми Жеребцами столкнулись с казаками генерала Сидорина. Потрепали мы их изрядно. Враги, видно, долгое время не имели дела с крепкими частями. Вступали они в бой лениво, не принимая нас всерьез, зато к концу энергично дали тягу.