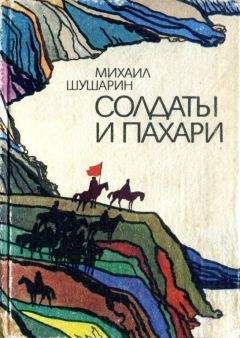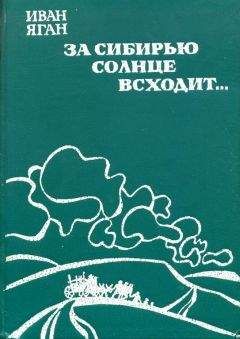Михаил Керченко - У шоссейной дороги
Кадрами в совхозе по-прежнему ведала жена Василия Федоровича, Муся. Она с улыбкой вспомнила нашу первую встречу:
— Если бы в то время мне сказали, что не пройдет и года, как вы станете моим начальником, — ни за что не поверила бы.
Так началась в моей жизни новая полоса. Марина была довольна мной: я, неожиданно для нее, сделал, как она сказала, заметный шаг вперед.
Ни одно хозяйство не стоит на месте. Мне пришлось много работать, много думать, пережить, перестрадать. У меня, как и у Рогачева, появилось чувство соперничества, хотелось руководить так, чтобы не только хорошо шли дела, но и люди заговорили обо мне как о способном директоре. Наверное, большое или малое чувство тщеславия сопутствуют каждому человеку. До поры до времени оно где-то глубоко прячется, спит, но если его растревожат, оно, как медведь, становится на дыбы. Правда, в то время я об этом не думал. Я искал свои пути, учился на ошибках Рогачева и на своих тоже.
Сейчас я не собираюсь скрупулезно рассказывать о своих делах, может, придет время… А вот как сложилась за эти годы жизнь моих близких и знакомых, пожалуй, расскажу.
Петр Яковлевич стал директором сельского профессионально-технического училища, женился на девушке-зоотехнике, которую когда-то лишил премиальных перед ее поездкой в санаторий. У них растет сын. Рогачев очень подвижен, активен. Он меньше находится в училище, чем в колхозах и совхозах: читает популярные лекции, пишет заметки в районную газету. Он вполне доволен своей судьбой, гордится бородой, которую отпустил и выкрасил в рыжий цвет.
Григорий Ильич сдал кандидатский минимум и сейчас работает над диссертацией об организации звеньевой системы на животноводческих фермах. Я думаю, из него получится настоящий ученый.
Сергей Дмитриевич тоже пошел в гору: его перевели работать в Москву, в министерство. А Тоня не поехала туда. Я не знал, почему она не поехала с мужем. Это оставалось тайной. Мы встретились с Тоней в областном центре в ясный солнечный день. Сидели в скверике, она расспросила, как я живу, а потом сказала, что решила вернуться в наш город и снова работать в школе. Перевезти к себе мать с сыном. С ними будет жить и Кузьма Власович. О Сергее Дмитриевиче умалчивала. Чувствовалось, что она пережила какую-то внутреннюю драму.
Через скверик проходила опустившаяся пьяная женщина. Так мне не понравилась эта женщина! Если бы я знал, что произойдет через две-три минуты, я силой бы утащил Тоню оттуда. Пьянчужка вела за руку прехорошенькую русокудрую девочку лет четырех. Они присели на скамейку рядом с нами. Тоня познакомилась с девочкой Люсей, угостила ее конфетами, приласкала. Люся оказалась бойкой, любопытной и разговорчивой. Тоня сказала:
— Вот и я была когда-то такая же лепетунья. Матери покоя не давала. Только моя мама не пила…
— А тебе какое дело, что я пью? — огрызнулась женщина.
Я сказал Тоне:
— Не связывайся с ней.
Она пожала плечами:
— Ребенка жалко. У вас есть свой дом, Люсенька?
— А тебе какое дело? — проворчала женщина.
— Тетя, мы на вокзале спим, — пролепетала девочка.
— Если тебе жалко эту соплюху, — сказала пьяная, — то возьми ее себе.
Она грубо толкнула ребенка, сорвалась с места и неожиданно быстро побежала прочь, через дорогу, по которой непрерывно сновали машины. Девочка заголосила, швырнула на землю конфеты и, косолапя, бросилась за матерью прямо в гущу машин.
— Раздавят ребенка! — крикнула Тоня, кинулась вслед за Люсей и… попала под грузовик. Все произошло в один миг. Ни пьяная женщина, ни девочка не пострадали. Тоню на «Скорой помощи» доставили в больницу, сделали операцию. Я вызвал Марину, дал телеграмму Сергею в Москву.
Назавтра мне разрешили навестить ее. Она была в сознании и просила впустить меня. Когда я вошел в палату, она не заплакала, только широко открыла черные, окаймленные густыми бархатными ресницами глаза. Таких чудесных глаз, такой душевной глубины и такой боли в них я никогда нигде не видел!
— Я ждала тебя, — тихо выдохнула Тоня. — Все, милый Ваня, конец. Для чего жила? Чтоб с тобой встретиться? Спасибо за все. Я любила тебя, знай это. Пусть Марина не обижается. Она…
Тоня впала в забытье. Умерла она на моих глазах. Я потерял большого друга. Мне казалось тогда, что такого удара судьбы я еще не испытывал.
Я взял отпуск и уехал в Крым. Жил в доме, который стоял на обрывистом берегу. Кто перенес большое горе, тот знает, что от него сразу не излечишься. Человек тлеет, как головешка, тихонько сгорает. Живет воспоминаниями и в них порой находит силы для жизни. Если жил внутренне хорошо, если твое прошлое светло, в нем было много радостей, то тогда легче перенести горе.
Я часами сидел на веранде и вслушивался в отдаленный шум волн. И чудилось мне, что кто-то ведет чудесное сказание о Синдбаде Мореходе. Когда же море свирепело и слышались не приглушенные пушечные выстрелы, а сплошной гул, треск и громовые раскаты, я оживал, у меня словно вырастали крылья буревестника, который мечется над волнами. Мне самому хотелось взлететь над бездной и куда-то умчаться… Я думал о Тоне, видел ее паза. Я не верил, что ее нет на свете.
…В открытое окно мягко плыла прохлада. Я взглянул в туманную морскую даль. Тихая и приятная грусть, воспоминания о жизни на пасеке пробудились во мне. Черное море тяжело ворочалось и глухо рокотало. Волны то налетали высокой синей стеной на серый каменистый берег и разбивались, то беспомощно откатывались назад, чтобы снова с грохотом обрушиться на неприступные камни. Я видел, как из легкой морской пены рождались сотни диких белогривых коней и, выгнув дугою шею, стремительно мчались к берегу. Море изменчиво, море неповторимо, как жизнь…
Послышался звонок. Обычно в это время приходит почтальон. Он подал целую кипу газет, журналов, писем. Я стал разбирать почту. Перелистывая журнал, обратил внимание на «Записки пасечника». Любопытно! Читаю. Все необыкновенно знакомо. Боже, так это же мои записи. Как они сюда попали? Ах, Марина, Марина! Это дело твоих рук. Вот почему я не нашел тогда книгу с дневниковыми записями! Ну, погоди! Вскрываю письмо от Марины…
«Лето у нас в полном разгаре. Поля чуточку побурели от зноя. Пшеница наливает колос. Как хороши наши сибирские земли, березовые колки! Думается, что тебе надо вернуться домой. Здесь тебе будет легче. Поверь мне. Я знаю, что ты страдаешь… Я знаю, что море прекрасно, но оно чуждо тебе, в нем нет успокоения. Дома, на наших полях и лугах, ты наберешься сил, окрепнешь. Жду тебя!»…
В тот же день я уехал. Вот и Сибирь, родимые привольные места. Не доезжая до родного города, теплым вечером сошел на предпоследнем полустанке. Решил: пойду через поля прямо к пасеке. Запахи донника, чебреца, полыни разливались в густом упругом воздухе, пьянили меня. Стрекотали кузнечики, иногда жужжали шмели, звенел поздний жаворонок. Солнце золотило пшеничные колосья, ветер осторожно колыхал их. Росла в груди радостная теплота. Из-под ног с шумом вспорхнула стайка молодых куропаток. Любуясь их полетом, я снова вспомнил легенду о Степной красавице:
…И было у Степной красавицы
Много белых, как лунь, кобылиц.
Все долгогривые, быстроногие.
Разъезжала на них она
По своим полям-владениям…
Я устал, сел у копны свежего сена и незаметно уснул. Видел во сне Степную красавицу, она шла ко мне по зеленому лугу в золотых туфельках, в сарафане, расшитом бисером. Легкая белоснежная кисея прикрывала ее плечи. Улыбаясь, протянула мне руки: «Иван, Иван! Ты забыл меня, Иван. Ты любишь другую». И подала букет полевых цветов. Я вдохнул их аромат. Степная красавица засмеялась заразительно-весело и вместо цветов в моих руках оказалась горькая полынь, что растет на пустырях и по обочинам дорог. «В моих руках и полынь становится душистой. Я ведь волшебница. Все женщины волшебницы, и руки у них волшебные, и глаза, и голос…»
Возле нас откуда-то появился старик с длинной серебристой бородой. Он с достоинством поклонился, произнес: «И могла та Степная красавица на полях превеликих золотые хлеба выращивать».
И перед нами тотчас зашумело пшеничное поле. Старик нагнулся, сорвал колосок, растер его и высыпал на ладонь янтарные зерна. Он говорил и тут же возникали и исчезали картины, вызванные волшебной силой Степной красавицы. Я попытался схватить ее за руку. Она вырвалась, засмеялась, крикнула убегая: «Догони!»
Я проснулся, сожалея, что это был сон. С низин тянуло прохладой. Степь ликовала. Звучали птичьи голоса. Из-за бугра появилась всадница на белой лошади. Легкий ветерок развевал ее волосы. Она въехала на холм, придержала коня и, заслонившись ладонью от солнца, посмотрела вдаль на поля. Это была Степная красавица, женщина-волшебница, это была Марина. Я поднялся во весь рост и крикнул: М-а-р-и-н-а!