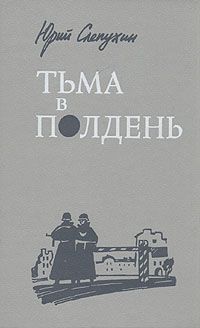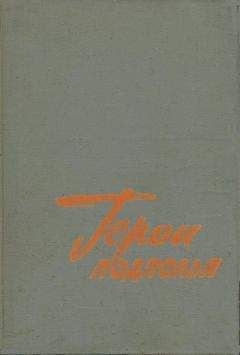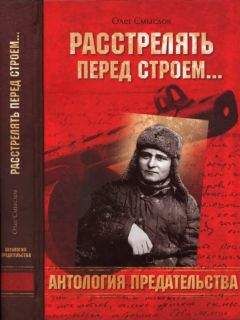Юрий Слепухин - Тьма в полдень
Ел майстер медленно, вдумчиво и при этом любил поговорить об еде. Настоящего разговора не получалось, потому что у майстера знания русского ограничивались двумя идиомами: «дафай-дафай» и «тфойю мат», а рабочие усвоили по-немецки лишь несколько технических терминов, названия кое-каких инструментов и пару наиболее ходких ругательств; но поговорить за завтраком о еде герр Любке любил. Он показывал рабочим свой бутерброд и произносил что-то, одобрительно кивая головой: вкусно, мол, здорово. Бутерброды у него были диковинные – тоненький ломтик белого хлеба, ломтик черного, а посредине такой же толщины ломтик сала. Рабочие кивали, соглашаясь. Еще бы, мол, не вкусно, у вас там такого сала сроду не было. Прожевав кусок, майстер прихлебывал из эмалированной фляжки и тоже показывал ее и говорил: «Кафе, гут, прима!» – «Гут, гут»,– соглашались рабочие, докуривая натощак свои цигарки.
То, что майстер никого не угощал, было понятно: на всех не напасешься, а если угостить одного, так почему этого, а не того? Но все же жрать вот так на глазах у голодных и при этом еще хвастать своей жратвой – тоже не дело. «Все у них не по-людски, – удивлялись рабочие. – Ну, ушел бы куда в сторонку, к своим, там бы и закусил! Ведь вроде ж и невредный старик, шут его разберет...»
Старик и правда не был вредным: спрашивал строго, но справедливо, и – главное – сам всегда готов был показать, научить, если что не ладилось. Работать под его началом было можно, и Кривошеин уже подумывал, как бы поближе сойтись с майстером и прощупать осторожненько его настроения. Он давно обратил внимание, что с офицерами, часто появляющимися на участке, Любке держится независимо, без тени угодничества перед самыми высокими чинами (однажды пожаловал даже какой-то генерал с красными в золоте отворотами). Видно было, что старый майстер недолюбливает военных. Кто же он по своим убеждениям? Наверняка не фашист, – не может быть, чтобы такой трудяга был с ними заодно; скорее всего, из каких-нибудь там социал-демократов. За Носке небось в свое время голосовал, старый гриб, за Шейдемана. Ну да было время опомниться; может, и поумнел на старости лет... Всяко бывает.
Кривошеин еще не совсем ясно представлял себе, что практически может дать сближение с Любке, но попробовать – смысл был. А что, если среди мастеров найдутся двое-трое настоящих антифашистов? Через них можно установить контакты и с антифашистскими кругами в армии, а там...
Немного смущало Кривошеина слабоватое знание немецкого, – сумеет ли договориться так, чтобы быть правильно понятым? Когда-то он сдавал немецкий на «отлично», но практики с тех пор не было, многое подзабылось. Кривошеин стал читать немецкие газеты – «Фелькишер беобахтер», «Дойче-Украинэ цайтунг», «Панцер форан». Понемногу восстанавливал словарный запас, освоился с непривычными готическими закорючками, стал даже понимать солдатский юмор на последних страницах иллюстрированных журналов. А потом, за неделю до Нового года, план обработать майстера Любке взлетел на воздух.
Точнее, взлетела на воздух так и не отремонтированная до конца водокачка. По счастью, в это время там никого не было, и обошлось без жертв. Трудно сказать, было ли это диверсией или просто где-то в фундаменте сработал наконец взрыватель заложенной в августе мины; но немцы, естественно, предположили первое.
На всей территории узла была усилена охрана, появилась колючая проволока, по утрам всех тщательно обыскивали в проходной, саперы обшарили каждый квадратный метр миноискателями. Конторщица предупредила Кривошеина, что немцы намерены исподволь проверить анкетные данные у всех работающих на железной дороге.
Надо было заметать следы, пока не поздно. Кривошеин продал на толкучке новые кирзовые сапоги и купил там же бутылку румынского коньяку. Сапог было жаль, – он получил их в обкоме шестого августа, вместе с комплектом документов на имя Федотова и новеньким, жирно смазанным пистолетом ТТ; это были не просто сапоги, а часть его снаряжения подпольщика. Но мало ли чем приходится жертвовать!
Анна Васильевна, конторщица, снесла коньяк какому-то шрайберу[11] из отдела кадров и пожаловалась, что ее троюродного племянника прислали сюда на тяжелую работу, а он человек слабый, деликатный и хочет заняться коммерцией. Шрайбер сам оказался из коммерсантов; то ли коньяк пришелся ему по вкусу, то ли сработало чувство сословной солидарности, но через два дня Алексей Федотов был уволен и отправлен на биржу с составленной по всем правилам медицинской справкой, удостоверявшей его непригодность к использованию на тяжелых работах по причине грыжи.
Тогда-то он и устроился в артель, где работали Глушко и отец Иры Лисиченко. Петр Гордеич ни разу не намекнул, что знает его настоящую фамилию и осведомлен о его прежней комсомольской работе, но иногда поглядывал с такой хитрецой, что Кривошеин не сомневался: знает. Это было даже к лучшему, – в таких случаях раскусивший тебя человек сразу становится либо врагом, либо единомышленником. Мысли о том, что Лисиченко может оказаться предателем, Кривошеин не допускал. Ручался за старика и Володя Глушко.
Этот с первого же дня стал донимать Кривошеина разговорами о необходимости «что-то делать». Кривошеин и сам отлично понимал эту необходимость, ему только неясно было, что и как можно делать в их положении.
Прежде всего, не было кадров. Правда, Глушко обещал познакомить Кривошеина с какими-то «отчаянными ребятами», готовыми, по его словам, на все; но потом оба согласились, что отчаянные и готовые на все ребята могут принести больше вреда, чем пользы. А вот ребят идейных и выдержанных, настоящих комсомольцев, что-то не попадалось.
Разумеется, они где-то есть, в этом Кривошеин не сомневался. Но торопиться он не хотел; прежде чем затевать что-то со здешней молодежью, нужно дать ей время оправиться от шока, прийти в себя.
– Да до каких же пор они будут приходить в себя! – кричал Глушко. – Я тебя не понимаю, Алексей, ты говоришь – попали в болото, так нужно же их оттуда вытаскивать! Или будем ждать, пока захлебнутся?
– Не захлебнутся, не бойся, – спокойно отвечал Кривошеин, ловя паяльником бегающую по куску нашатыря ртутную капельку припоя. – Ни черта они не захлебнутся... То есть кое-кто, может, и захлебнется, но таким туда и дорога. Насильно из человека героя не сделаешь, Глушко, это уж точно...
– А как же...
– На фронте, ты хочешь сказать? Там другое дело, ты эти вещи не равняй. Там коллектив, дисциплина, пример постоянный. Бойца можно из каждого сделать, а вот подпольщика...
– Черт, столько лет воспитывали!.. – возмущался Глушко.
Кривошеин допаивал очередную зажигалку, клал паяльник, молча закуривал. Верно, воспитывали. А разве не воспитали? Он видел толпы десятиклассников, осаждавших райкомы. Он видел, как уходили на фронт мальчишки, как девчонки копали противотанковые рвы под пулями «мессершмиттов», как ремесленники простаивали по полторы смены у едва освоенных станков. Разве этого не было?
– Воспитание воспитанием, – говорил он, – но нельзя скидывать со счетов и влияние среды, всей обстановки. По ту сторону фронта все эти ребята сейчас проявляли бы чудеса героизма, факт. А здесь они размагнитились, и ничем ты их не намагнитишь, пока сами не одумаются...
– Скипидарить их надо, а не магнитить!
– Ты брось, Глушко, немцы этим и без нас занимаются. Силой, что ли, загонять комсомольцев в подполье?
– Да, силой, если хочешь. Приказом! Комсомольцы они или нет? Значит, приказать именем комсомола!
– Громкие слова говоришь. Ни фига ты никому не прикажешь, факт, а озлобить ребят окончательно можно. У них и так в головах все перекрутилось...
– Значит, надо вправлять мозги!
– Сами вправятся, как придет время. Погоди только, пусть немцев тряханут на фронте всерьез, а то ведь сильнее кошки зверя нет...
– Мало их под Москвой тряханули? А эти обыватели сделали для себя выводы? Ни черта они не сделали!
– Сделают рано или поздно! – невозмутимо говорил Кривошеин. – Под Москвой только начало, немцы еще держат хвост пистолетом.
– Ведь какая молодежь пропадает! – возмущался Глушко, забыв про остывший паяльник. – Я вот живу у Николаевой, – не нравилась она мне, это верно, но ведь была хорошая комсомолка, идейная, честная! А сейчас что? Обывательница на все сто!
– Николаева? Да ну, какая там она обывательница! А чем она теперь занимается?
– Работает у одного спекулянта. Барахлом торгует!
– Ну что ж, ведь не от хорошей жизни пошла, надо полагать. Ты не пробовал с ней говорить?
– Пробовал. Я же говорю – обывательница! «А что мы можем делать?» – другого от нее не услышишь.
– Сейчас мы и в самом деле мало что можем, Глушко, тут она права. Подожди вот, осмотримся, подберем ребят...
– Пока солнце взойдет – роса очи выест.