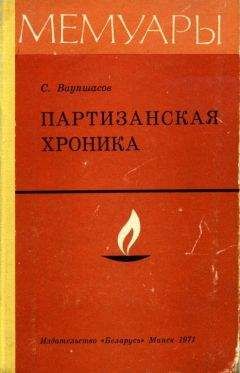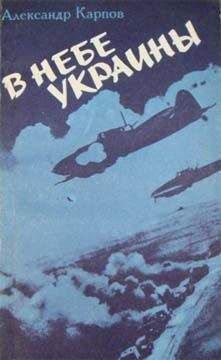Тимофей Гнедаш - Воля к жизни
Вода быстро набегает в мою землянку. Каждое утро Гречка выносит не меньше десяти ведер. В течение дня каждый приходящий ко мне в гости, по неписаному правилу, вычерпывает еще по три ведра, но вода прибывает и прибывает. Как будто все вешние лесные потоки скопляются у меня на полу. Но это уже ненадолго, наша наступающая армия входит в волынские леса.
— Тимофей Константинович, больного привезли!
Беру костыли, опираясь на них, иду в операционную.
Больной лежит на столе. Иссохший крестьянин лет сорока, заросший бородой, в лаптях и серых онучах.
— Вы меня не помните? — спрашивает он, едва шевеля губами.
— Ни, не помню…
— Никифор.
Имя это ничего мне не говорит. Не могу вспомнить.
— Помните, як я приизжав до вас у Лобно? Мучився желудком?..
— Да, да, теперь припоминаю. Язва желудка.
Осмотрев больного, выслушав его сбивчивый рассказ, ставлю диагноз: прободение желудка… Нужно, не откладывая ни минуты, делать операцию. Аня кипятит инструменты, готовит эфирную маску.
Больной спит под наркозом. Ставлю костыли к стене, приступаю к операции и вдруг чувствую такую резкую боль в ногах, что кажется, вот-вот упаду. Кажется, что не только получаса, но и пяти секунд не выстоять у операционного стола. Преодолевая мучительную боль, усилием воли заставляю себя продолжать работу.
«Товарищ врач, никогда не нужно сосредоточиваться на своих болезненных ощущениях! Больному в тысячу раз хуже! Смерть стережет его!..»
Вскрываю брюшную полость — действительно стенозирующая прободная язва желудка. Дальше, дальше! Теперь все, теперь уже некуда отступать. Надо доводить дело до конца. Если бы я и упал, некому сейчас заменить меня. Свентицкий тяжело болен, Кривцов эвакуирован в советский тыл.
В этот момент замечаю, что боль в ногах у меня исчезла. Исчезла начисто, абсолютно, словно я сам под наркозом! Накладываю швы, закрываю рану. Больного уносят. Сажусь на табурет. Может быть, я уже здоров? Но нет, вот снова приливают боли к ступням. Костыли, где мои костыли? Что же это было со мной?.. А впрочем, разве вам, читатель, не случалось переживать подобное, когда приходилось шагать через «не могу». Вспомните, как удесятерялись ваши силы, когда вы думали не о себе, а о чем-то более значительном, чем ваша личная боль.
Великой школой явилась для меня работа в тылу врага. В лесу, в землянке, на госпитальной койке, даже на костылях, мы были полны воли к жизни, к борьбе. Там я проверил свои силы и возможности, научился глубже ценить людей, быть осмотрительным, тактичным, политически осмысливать каждый свой шаг.
По пути из операционной захожу в землянку Свентицкого. Вот уже несколько дней, как он не встает, у него воспаление легких. Обросший седой щетиной, с заострившимся носом, он лежит на койке, навалив на себя потертое пальто с бархатным воротником и овчинный кожух. Ездовой Свентицкого — молодой паренек-белорус вычерпывает ведром и выносит воду из землянки. Слышно, как пронзительно чирикают воробьи, прыгая по прошлогодней траве на крыше землянки.
— Осторожно, не промочите ноги. Не ступайте на эту дощечку, она плавает, а не лежит на полу. Садитесь, посидите немного у меня, — обрадованно говорит Свентицкий, но оживление тотчас же покидает его, зрачки становятся мутными…
— Принес вам сульфидин, Леонид Станиславович…
— Спасибо. Но, кажется, уже и сульфидин не поможет. Чувствую, из этой землянки мне не выйти…
Беру его исхудавшую руку, считаю пульс.
— Пульс у вас прекрасный. Сердце работает в полную силу, как у двадцатилетнего.
— Не уговаривайте меня, я врач. Впрочем, заболевший врач — это самое мнительное существо, правда? — слабо улыбнулся он. — Досадно только, что совсем немного не дотянул! Совсем немного! И что оказался таким слабым. Слабее девушек! Они ведь тоже ночевали на возах. Точно в таких же условиях. И даже насморка не получили!
— Им было теплее вдвоем в парашютном ватном мешке, — говорю я, но Свентицкий не слушает меня.
— Я недооценил их вначале, да. А знаете, в чем тут дело? Вы правильно воспитываете молодежь. Я был единственным сыном у матери. Когда она меня выводила в детстве на улицу, она закутывала меня в свитеры, гамаши, заматывала шерстяным шарфом. Я не знал никакой физической работы в юности, даже постель мою застилали няни. Меня растили так, словно никогда на свете не будет ни войн, ни социальных потрясений. Воспитание должно быть гармоническим, вот в чем дело. Интеллект и организм надо развивать в равной степени, чтобы не было диспропорции. Иначе мысль и желание рвутся вперед, а тело, увы, немощно!..
«И только-то! — с разочарованием думаю я. — Это все, что он заметил, чему научился у нас? Мало, ой как мало! Неужели он не видел, как мысль, желание, идея поднимают немощные тела, дают им силу и крепость. Почти ничего он не понял и до сих пор в наших людях!..»
И вдруг мне становится жалко Свентицкого. Ему было труднее, чем нам. В тысячу раз труднее! Он пришел к нам, как одиночка. Его не поддерживали сила глубокого убеждения, уверенность в будущем. И все же он правильно нашел свой путь. Сколь же огромна правда наших идей, если одной крупицы ее достаточно, чтобы стать путеводной звездой для человека, далекого от нас, ограниченного в своем мышлении — западного интеллигента!..
Печальные предчувствия Свентицкого не оправдались. Он остался жив, работал врачом в отрядах польских партизан, организованных нашим соединением, и, по общим отзывам, хорошо работал.
Глава пятая
В родных краях
Из немецкого тыла меня вывезли в освобожденный Киев, в госпиталь для партизан. Из окна нашей палаты виден был Днепр, взорванные мосты, груды камней на месте разрушенных домов на левом берегу Днепра. Когда я оставил костыли и смог ходить с палочкой, увидел то, что было когда-то Крещатиком, — кучи щебня, коробки многоэтажных домов, закопченные пожарами, чудом уцелевшая гигантская глухая стена на пустыре, заваленном раздробленным кирпичом и скрученным железом.
Слезы невольно выступали из глаз. Сколько лет понадобится, чтобы возместить неисчислимые потери нашего народа! Какой ценой оплатят бандиты, вторгшиеся в нашу страну, чудовищные разрушения войны?
В Киеве, в госпитале, я получил из Прилук письмо от матери. Она была жива! Я съездил в Прилуки.
И в городе, где прошло мое детство, лучшие дома центра лежали в развалинах. Многие знакомые люди были убиты, угнаны в рабство в Германию. Мать за годы войны сильно постарела. Она ходила с трудом, у нее дрожали руки.
— Если бы добрые люди не помогали мне — не дожила бы я до этой встречи, — сказала мать.
Много раз бывали гитлеровцы в нашем доме, забирали носильные вещи, посуду, продовольствие, тащили ведра, тазы, занавески. Много раз допрашивали мать немецкие наймиты, издевались над ней, выпытывая, где находятся ее дети.
Средний мой брат, Николай, молодой ученый физик, погиб на фронте, младший, Павел, служил военным врачом под Калинином.
— Помнишь, Тимофей, колы вы збирались летом и все балакали за войну, а я дуже сердилась, что нема у вас другого разговора. Приихали на несколько дней и все про войну та про войну!.. А теперь я тильки про войну и думаю. День и нич про ней думаю. Вот вы много учились, образованные люди, вы б нашли таке оружие, щоб зразу знищить усих наших ворогов…
Тихо, дрожащим голосом мать рассказывала:
— Уси годы при нимцях люди бедствовали из-за соли. По двести карбованцив платили на базаре за стакан соли. А як нимци стали тикать з Прилук, открыли сараи с солью, бери, хто скильки хоче. Народу набежало багато, тогда они закрыли двери и стали поджигать сарай. Того крику николы до смерти не забуду, так кричали люди в сарае!..
— Мамо, хто жив остался в городе? Афанасий Прокопович живой?
— Живой.
Афанасий Прокопович не родственник наш и даже не близкий сосед, но часто я о нем вспоминал в годы войны.
У нас в Прилуках на окраине, около районной больницы, был глубокий овраг. На дне его, поросшем бузиной и крапивой, валялись нечистоты, мусор, трупы павших животных. Как только наступали сумерки, люди боялись ездить и ходить мимо оврага, особенно в темные ненастные ночи. И вот Афанасий Прокопович взялся сделать самое неприятное и страшное место нашего города уголком отдыха и отрады. Он расчистил свалку, посадил фруктовые деревья, ухаживал за ними.
Через несколько лет в овраге около больницы цвели яблони, груши, абрикосы. Осенью ветви гнулись под тяжестью плодов. Это место около больницы стало одним из самых красивых в городе.
Я застал Афанасия Прокоповича в саду, он прививал черенок молодой яблони, бодро ответил на мое приветствие. Я обрадовался — старик жив и здоров.
— Вроде реже стало в саду?
— Да, реже. Вот там яблони были, немцы их сломали. Много ветвей обломано. Обрывали яблоки вместе с ветками, чтобы долго не возиться. Вон у той яблони, видите, как будто повыдергивали руки. Ну да ничего, это все быстро зарастет, перекроется, через год — два будет больше фруктов, чем было. Вот вишню посадил, видите? А это розы. Пойдемте сюда, что я вам покажу!