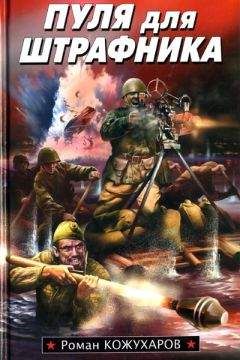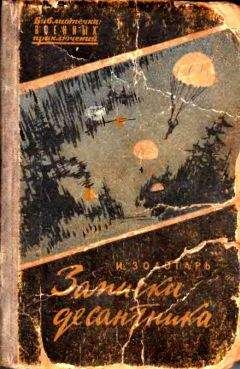Евгений Воробьев - Капля крови
Ему очень хотелось вызнать все касающееся этих трофеев, хотя он и понимал, что любопытство сейчас неуместно.
По всему было видно, что Тимоша и сам не прочь похвастаться лихими делами, но не время вдаваться в подробности, а расспрашивать его никто не стал.
Все, что произошло после гибели лейтенанта, было сейчас неинтересно.
— Хорошо, Тимошка, что не ослушался. Один через фронт не подался.
— Приказ твой выполнил. Да что толку? Разведданные-то при мне остались!
— Понимаешь, какая история… — Пестряков все больше мрачнел. — Обстановка изменилась за последние сутки… И штаб переехал. И зенитки. И танки ихние появились. Ну все навыворот!
— А я, шляпа, — Тимоша постучал согнутым пальцем по своей каске, — не заметил ничего, когда возвращался через городок. Вот тебе глаза, вот тебе и уши… Выходит, от данных, какие мы собрали, одна фантазия осталась?
— Может, мне полагается у тебя, Тимоша, и у лейтенанта нашего прощения просить. — Пестряков тяжело глядел исподлобья то на Тимошу, то на Черемных. — Но я, когда последние новости вызнал, душевно не желал вам удачи. Даже опасался, что вы те старые сообщения в штаб сообщите.
— Какое там еще прощение! Дело солдатское, — сказал Тимоша просто и подсел к Черемных на кушетку. — Ну как, механик?
— По совести сказать?
— Как водитель водителю!
— Выздороветь — не хватает сил. А умереть — не хватает смелости.
— Разговорчики! — прикрикнул Пестряков. — Смелость для жизни беречь нужно.
«Тугоухий, а что ему нужно, всегда услышит». — Черемных улыбнулся.
Пестряков перебирал документы лейтенанта, содержимое его планшета — там хранились тетрадка со стихами, радиотаблицы, статья из журнала о какой-то непонятной радиолокации, боевая характеристика Тимофея Кныша, адресованная в штрафной батальон, пачка писем из Ленинграда, фотография девушки.
Девушка, пожалуй, красивее Настеньки — и носик построже, и брови разлетистей, и волосы пышнее, а может, только кажется, что она красивее, потому что одета, не в пример Настеньке, очень нарядно: Настенька сроду такой блузки не нашивала. Но вот глаза у лейтенантовой девушки схожи с Настенькиными — такие же большие, от ресниц тень ложится, а в глубине их живет доверие.
Пестряков сложил все документы и бумаги лейтенанта в планшет и спрятал его в мороженице, где хранился сверток со знаменем.
Только боевую характеристику Тимофея Кныша, составленную лейтенантом, он положил себе в карман.
— Ведь последний, честное слово, последний я уходил, — убеждал Тимоша таким тоном, словно ему не верили. — На себя огонь принимал. А лейтенант сзади меня пострадал. Прямо загадка!
— Загадку твою отгадать нетрудно, — усмехнулся Пестряков горько. — Габариты у вас с лейтенантом разные. Очередь поверху прошла. Тебя, коротыша, не зацепило. А лейтенант при его росте как раз себе пулю высмотрел. Мишень-то легкая! Так что ты себя, Тимошка, понапрасну не виновать.
— Меня все утешить старался, — вздохнул Черемных. — Жизнелюбивый такой!
— А стихи почему-то все больше жалостливые, со слезой, в обращении у него находились… Как он там читал-декламировал? — Пестряков обратил к Тимоше левое ухо.
Тимоша подсказал:
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага…
— Четыре шага? Оказалось — еще ближе, — внес поправку Черемных.
— Мне еще понравилась «Лили Марлей», — признался Тимоша. — Исполнял наш лейтенант. В переводе с фашистского. Между прочим, тоже жалостная песня…
— Какая может быть жалость, если там поется о немке? — Пестряков раздраженно передернул несимметричными плечами. — Вот невесту лейтенантову, ту действительно жалко…
— Ей теперь ждать некого…
— Легко тебе, Тимошка, на войне, — сказал Пестряков. — Один как перст. Душа о семействе не болит. За одного за себя в ответе.
— Родителю труднее, — поддержал Черемных. — Я вот сейчас Сергейку вспомнил — меня даже мороз обнял…
Тимоша ничего не ответил. Он долго шумно вздыхал и как неприкаянный ворочался на тюфяке, которого с избытком хватало на его рост.
40
— Э-э-эх! — бодро потянулся Тимоша после долгого сна. — Вот вспомню довоенную жизнь — хорошо люди жили!
Он проснулся такой оживленный, словно сон помог ему совладать с печалью или о той печали позабыл вовсе.
— О ком речь держишь? — насторожился Пестряков.
— Вообще обо всех. Жили хорошо. Даже вспомнить соблазнительно — до чего хорошо. Возьмите хоть меня. Шикарно жил! Папиросы «Беломор». Покупал сразу по десять пачек. После получки. Нормально. Не любил, когда курево в обрез. Часто пользовался и «Казбеком». Пойдешь в гастроном, там отдел такой был: «Деньги получает продавец». Кинешь на прилавок трешку да пятиалтынный, а продавщица спрашивает: «Вам «Казбек» или маленькую?» Нет, вы только подумайте! Четвертинка водки — три целковых пятнадцать копеек. Порядок. Ну разве плохо жили?
— Жизнь — она ведь не одними четвертинками измеряется.
— Правильно! Теперь возьмем закуски. Пойдешь в ресторан, сядешь за столик. Белая скатерть. Меню длинное-предлинное тебя дожидается. Вежливо!..
— Это все верно, — перебил Пестряков. — Но только какое бы то меню длинное ни было, жизнь еще длиннее.
— Разве речь только про выпивку и закуску? Пожалуйста! У нас на улице Фридриха Энгельса штук десять кинотеатров. Не пропускал ни одной картины!
— А Настенька, может, десять раз в своей жизни кино смотрела. К нам в Непряхино этот кинопередвижник никак дорогу найти не мог. И хорошие товары в нашу лавку тоже дороги не находили. Где-то в больших городах товары заблудились. У нас даже иные девушки в лаптях ходили. Не слыхал про такую моду: «Баретки — сорок четыре клетки!..» А все равно хоть и в лаптях, а по счастливым тропкам ступали. Вот и Настенька моя едва среднего образования не достигла. Восемь зим в школу отходила. С шестого класса уроки стала при электрической лампочке готовить. А почему крестьяне еще так весело с керосином расстались? Не догадываешься?.. — Пестряков выдержал паузу: — Да потому, что у нас керосина сроду в сельпо вдоволь не завозили. Чтобы того керосина на все лампы хватало…
— Что правда, то правда, — вздохнул Черемных. — Скупо в нашей деревне жили.
— Вольно было тебе, Тимошка, — продолжал Пестряков сварливо, — смотреть кино без антрактов, ходить в ресторан с белой скатертью или в буфет с горячими напитками. Твое дело было холостое, у тебя дите пить-есть не просило…
Тимоша растерянно заморгал белесыми ресницами.
— И зарплата шоферская тебе веселую жизнь позволяла.
— Зарплата мне как раз не позволяла, — мрачно признался Тимоша. — Я еще доход получал…
— Левак? — сразу догадался Черемных.
— Левые рейсы ездил редко. Зато накипал приварок от пассажиров. Особенно доходные пассажиры, кто торопится на базар. Или с базара. С мешками, с бидонами, с корзинами. Чего только не возил! Даже раков полные решета. Раки крупные, можно сказать, наркомовские. Их у нас ловят в гирлах Дона, в лиманах, в протоках. Потихоньку от властей местных.
— Выходит, хорошо жил, потому что ловчил? — насупился Пестряков.
— Меня еще сызмальства жизнь заставляла ловчить. Помню, в школе у нас учитель был подслеповатый. И на отметки забывчивый. Зазевается он. А я найду в раскрытой тетрадке минус против своей фамилии и перечеркну тот минус на плюс. Порядок. И что же вы думаете? Сходило!.. А когда экзамен на механика по автоделу сдавал? Самому корпеть лень было. С этими занятиями и от танцев отстать недолго. Занял чертеж у одного чудака. Отрезал край листа, где помещалась его фамилия. Сам расписался в другом месте. А инструктор попался раззява. Вторую пятерку за один чертеж поставил. Вежливо…
Пестряков только передернул плечами.
Уже не впервые Пестряков и Тимоша, чтобы скоротать время, принимались рассуждать о жизни.
Тимоша охотнее вспоминал, и воспоминания у него обычно были радужные. А Пестрякову не все прошлое представлялось в светлых красках, и он чаще Тимоши обращался помыслами к будущему.
Черемных напряженно вслушивался в эти разговоры, иногда вставлял реплики. И хотя сам дожить до мира не надеялся, ему было приятно слушать и думать о будущем, потому что это было будущее его Сергейки.
Подолгу вели эти разговоры Пестряков и Тимоша, иногда жарко препирались, но не могли прийти к согласию, к единодушию.
Да и как им было сговориться, если Тимоше добываемое в муках войны будущее представлялось лишь как восстановленное прошлое, как воскресшая довоенная жизнь, а Пестряков этим не удовлетворялся, он предъявлял к будущему значительно большие требования…
— Я всю жизнь нарушал обязательные и необязательные постановления, — чистосердечно признался Тимоша. — Но только не во вред людям, а на пользу…