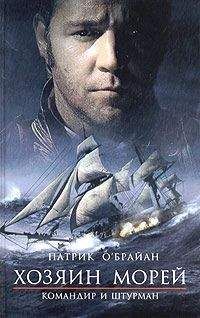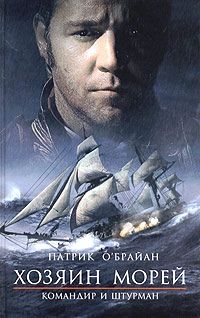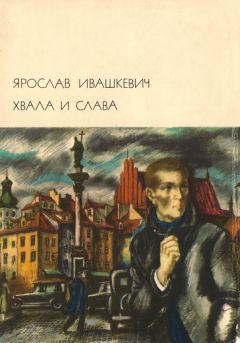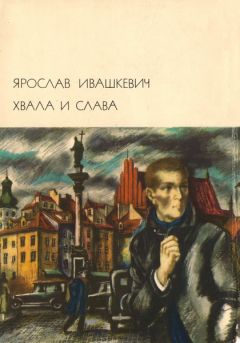Ярослав Ивашкевич - Хвала и слава. Книга третья
— И под боком у трупов, — добавила Геленка. Что-то в голосе Геленки поразило Губерта. Он взглянул на нее. Она была бледна.
— Что с тобой? — спросил он.
— Глупый вопрос! — Геленка вдруг остановилась. — Ах, Губерт, ты, право, совсем невозможный. Твоя банальность иногда просто убийственна.
— Что тебе от меня надо? — Губерт тоже остановился.
— Ну как можно задавать такие вопросы! Что со мной?! После всего этого…
Губерт пожал плечами.
— Ты что, никогда трупов не видала?
Геленка не двигалась с места.
— Представь себе, еще не видала! Никогда!
— До сорок третьего года? Не видела ни одного трупа?
— Представь себе. Постарайся понять. Никогда не сидела убитого человека, никогда не видела мертвого человека.
— Ну и как?
— Это ужасно.
Геленка сказала это очень серьезно, ироническая улыбка исчезла с ее лица.
— Это страшно, — повторяла она, — страшно.
— Послушай… — Губерт не знал, что и сказать.
— И вы тоже убиваете?
— Маловато, меньше, чем надо бы, — усмехнулся Губерт, — но убиваем.
— Не усмехайся! — крикнула Геленка.
— Не будь истеричкой, — с раздражением сказал Губерт, схватив ее за руку. — Пошли!
Геленка вырвалась.
— Никуда я не пойду! — крикнула она.
Она отошла на несколько шагов и опустилась на землю. Сорвала какой-то стебель и стала внимательно его рассматривать. Губерт остановился невдалеке и с беспокойством поглядывал на Геленку. Вокруг была полная тишина.
Губерт посмотрел вверх, на чистое и как бы отодвинувшееся вглубь небо. Пел жаворонок, уносясь в вышину. Ров, на краю которого сидела Геленка, уже покрылся темно-зеленой травой. День был прекрасен.
И все, что пришлось ему видеть за этот день — шеренги детей и трупы убитых, лежащие в траве, — показалось Губерту в эту минуту сном. Невозможно было поверить, что все это наяву, что нельзя вернуться к нормальной жизни. Даже небо, прозрачное, бледно-голубое, перестало быть нормальным. Оно стало безнравственным. Губерт не мог больше выносить эту тишину.
Геленка сидела все в той же позе.
— Пойдем, — обратился он к ней.
— Не хочется, — ответила Геленка не подымая глаз.
— Не вечно же ты будешь сидеть здесь?
— Я очень устала. Ноги болят. Танцевали сегодня до утра.
— Где?
— У Баси Будной. Была танцулька.
Губерт вдруг встревожился. Он сделал шаг к Геленке.
— С кем ты была?
— Одна.
— Бронек не приходил?
— О, он давно уже не приходит.
— Давно?
— Давно. И сказал, что больше уже не придет.
— Их увозят?
— Наверно. Но не его. А в общем не знаю. Откуда мне знать?
Геленка подняла голову и беспомощно посмотрела на Губерта.
— Ничего я не знаю, — сказала она жалобно.
Губерт опустился рядом с ней на край придорожного рва.
— Хуже всего, что ничем нельзя помочь, — сказал Губерт.
— Не говори так. Не смей говорить. Понимаешь? — гневно и в то же время печально сказала Геленка, словно ребенок, который пытается угрожать. — Такие слова — это уже примирение.
— Примирение? С чем?
— Со всем, что вокруг делается: с убийством детей, с пытками невинных и виновных, с заключением в гетто. Не смей говорить, что ничем нельзя помочь. Я не могу так думать, не могу с этим согласиться. Понимаешь, я не согласна!
— Не очень много это значит, согласна ты или не согласна, — сказал Губерт. — Все происходит без нашего согласия.
— Неправда. Если будем кричать, если будем верить, то не будут твориться такие дела.
— Крик — сомнительное оружие.
— Ну, если не крик, так вера. Протест. Я не хочу, я не хочу…
— Чего ты не хочешь?
— Чтобы они лежали там в лесу. Не хочу!
— Так, так. Но они там лежат.
— Не хочу.
— Убитые…
— Не хочу, чтобы и мы вот так же лежали. Понимаешь? Я не хочу умирать.
— Еще бы. Ну а если все-таки надо будет?
— Умирать никогда не надо.
Губерт засмеялся.
— Удивительные у тебя формулы.
Геленка повернулась к нему и с минуту смотрела на него, видимо желая еще что-то сказать. Но колебалась. Брови ее дрожали.
— Геленка! — удивленно сказал Губерт.
Девушка обняла Губерта, спрятала лицо на его плече и расплакалась.
Губерт подождал немного, затем похлопал Геленку по спине.
— Слушай, — сказал он, — ты намочишь мне новую куртку. Перестань. Я не знал, что ты плакса. Думал, что ты никогда не плачешь.
Геленка подняла голову.
— Я действительно никогда не плачу. Только вот сейчас. Потому что не хочу…
И снова расплакалась.
— Взгляни, какой прекрасный день. Не омрачай прекрасного дня весны, — полушутливо сказал Губерт, будто читая стихи. — Вставай, пойдем в Брвинов пешком.
Он встал и поднял Геленку. Она не сопротивлялась. Никогда еще Губерт не видел ее такой.
VI
Специальностью профессора Рыневича была биология, однако он занимался еще и систематикой наук. В этой области он поднялся до высот философии (логика тоже была ему помощницей) и, собственно говоря, достиг более значительных результатов, чем в пресловутой теории нового ледникового периода, которая делала его посмешищем, когда он как одержимый возвращался к ней.
В качестве «философа наук», если можно так выразиться, и как организатор он играл большую роль среди варшавской молодежи и вскоре стал одним из наиболее активных организаторов подпольных университетских занятий. Он еще и сам не отдавал себе отчета, до какой степени этот «подпольный» авторитет вознаграждал его за былые неудачи в университете, за недостаток популярности у молодежи.
В середине сорок второго года его сын Ежи был схвачен на улице. Вначале он сидел в Павяке, затем, как узнала его невеста, Ежи был увезен в Освенцим. Через несколько месяцев пришло сообщение, что он «умер от разрыва сердца». В то время урны с пеплом уже не отсылались родным. Это было «благодеянием» лишь самых первых дней Освенцима.
Профессор не прекратил преподавания в подпольных группах, наоборот, еще ревностнее отдался занятиям со студентами. Некоторые лекции и занятия происходили в его квартире на Польной. Его ученикам казалось, что профессор в обществе молодежи забывал о своей утрате, как-то отвлекался, излагая им свои запутанные теории и участвуя в дискуссиях на семинарах. Жена профессора, наоборот, встречи с молодежью переживала трагически. Отворив дверь студентам — их обычно бывало человек семь, а иногда и больше, — она окидывала каждого взглядом, полным отчаяния. Видно было, как ее терзало разочарование, что это вошел не Ежи. Иногда во время лекции за стеной, в соседней комнате, слышались горестные рыдания, негромкие, но безутешные и долгие. Лектор и студенты делали вид, что ничего не слышат. Но тишина становилась в эти минуты еще напряженнее.
Анджей и Губерт оба были в числе студентов профессора Рыневича, но учились на разных курсах и поэтому на лекциях не встречались. Однако каждый из них знал о другом, что тот тоже бывает на Польной. Анджей работал — ради арбайтскарты — в переплетной мастерской на Хлодной: обрезал печатные страницы. Для науки у него оставалось только время после полудня. В эти часы они и собирались — он и его товарищи — у Рыневичей.
В те дни в отношениях между студентами и профессорами не осталось и следа прежней официальности. Недоступные «ученые» зачастую становились товарищами и близкими знакомыми молокососов. Этому способствовала и обстановка лекций, и сам «пафос времени», который одинаково влиял и на преподавателей и на студентов.
Анджей и Губерт стали заходить к профессору не только на лекции, но и просто чтобы навестить его, ибо видели, что их посещения приносят радость и утешение в его страшном горе, что в их присутствии он не так остро чувствует свое одиночество. Посещения эти, правда, были не часты: у юношей все меньше оставалось свободного времени — они были поглощены работой ради хлеба насущного (скажем так), наукой и своими подразделениями, где вначале они были учениками, а после и сами стали инструкторами.
В один чудесный весенний день они решили выбрать время между всеми делами и «ввалиться» в квартиру на Польной. Они застали профессора в очень возбужденном состоянии, более нервном, чем обычно.
Мадам Рыневич отворила им дверь.
— Хорошо, что вы пришли.
Потом скрылась в своей комнате и больше не показывалась. Юноши, однако, смекнули, что произошло что-то необычное.
Профессор сразу же все объяснил:
— Знаете, Горбаля выпустили из Освенцима. Он приехал. Был у меня.
— Выпустили? — с недоверием спросил Губерт.
— Да, представьте себе. Но он едва ходит: чахотка. Сейчас уехал в Отвоцк, к знакомым.
— Но как ему удалось выбраться оттуда?