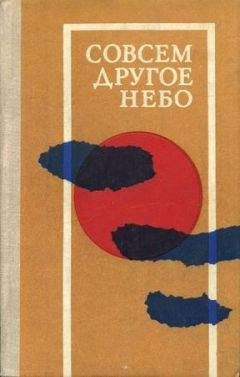Курбандурды Курбансахатов - Сияние Каракума (сборник)
Бой завязался настолько стремительный и жаркий, что, казалось, с первых же минут достиг той кульминации, за которой неизбежен перелом в ту или иную сторону. Но насколько решительным было наступление советских войск, настолько же упорным оказалось и сопротивление гитлеровцев, и поэтому перелома не наступило и сражение затянулось на той высшей точке, которой оно достигло в самом начале.
Раненых было много, Инна выбивалась из сил, спеша перевязать и вытащить из-под огня и тех, кто стонал, просил помощи, и тех, кто безмолвно лежал, обняв последним объятием холодную мокрую землю. Механик Саша, который с появлением Инны на батарее добровольно взял на себя обязанности её негласного опекуна и заступника, пришёл на помощь. Нацепив на себя сразу две санитарные сумки, он не отставал от девушки и при каждом близком, разрыве снаряда пытался оказаться между ней и этим взрывом. Это носило скорее символический характер, потому что фонтаны взрывов взлетали в самых неожиданных местах. Однако Инна была благодарна Саше и за эту условную защиту, и за помощь, и за то, что в присутствии этого спокойного, не теряющего присутствия духа здоровяка чувствовала себя не так одиноко и потерянно среди опустошающего грохота боя.
Они работали, не замечая ничего вокруг и даже не думая, что когда-нибудь этому должен наступить конец. А потом вдруг поссорились, и причиной ссоры послужил немец, стонавший в снарядной воронке: «Матка!.. Матка!.. Фрау!.. Фрау!..» Он был тяжело ранен — пуля раздробила ему ключицу. «Брось фрица! — закричал Саша. — Пусть сдыхает! Свои ребята помощи ждут!»
Но Инна не могла бросить человека, нуждающегося в помощи, даже если им был фашист, не могла — и всё. «Сейчас… сейчас… потерпи… — шептала она по-немецки, перевязывая рану. — Крест золотой на шее носишь… а сам зверствуешь на чужой земле…» Обрадованный тем, что русская фрейлен говорит по-немецки, раненый в промежутках между стонами пытался объяснить, пытался стащить с шеи крестик, чтобы подарить его своей спасительнице.
Увидев это, Саша окончательно разозлился. «На их проклятом карканье с врагом шпрехаешь?! — заорал он. — Взятки от фашистов берёшь? Не смей руки чистые марать!» Он рванул девушку за плечо, грубо выругался. Она упала, потеряв равновесие, и тоже рассердилась, закричала на парня, чтобы он не совался не в своё дело, убирался прочь, если у него простого человеческого понятия нет. И он ушёл, продолжая ругаться, суля всяческие лиха чистюлям и гнилой интеллигенции, ушёл подбирать раненых. А через полчаса его убило.
Инна долго не могла простить себе этого случая. Она твёрдо была уверена, что если бы не обидела Сашу, не прогнала его, он остался бы жив. И дала клятвенный зарок: никогда больше не обижать парней своей батареи. Ребята были разные по характеру, привычкам, поведению, по своему отношению к ней.
По-отечески заботливо и ревниво, называя её не иначе как дочкой, обращался с ней старшина Вакульчук. «Какая я вам дочка, Василий Олексич! — отшучивалась Инна. — Вы же ещё совсем молодой!» «Дочка, дочка, — уверял он со вздохом, вспоминая свою хату на Полтавщине и чернобровую хохотунью жену, — мне по возрасту пятерых дочек полагается иметь, а я… — И лез шерудиться в своих старшинских тайниках, отыскивая какой-нибудь фронтовой деликатес.
Инна относилась к старшине со смешанным чувством уважения и чисто детской привязанности. Несмотря на то, что очень повзрослела духовно в передрягах фронтовой обстановки, она в глубине души оставалась девочкой-подростком, до слёз тоскующей по ворчливой маминой заботливости, по тому повседневному любовному вмешательству в нашу жизнь, неизбывность которого мы со всей остротой начинаем ощущать лишь тогда, когда лишимся его. И от сознания этой, казалось бы, не столь значительной для взрослого человека утраты на душе становится так горько и безнадёжно, что можно сделать любую глупость, не окажись рядом доброго человека.
Таким человеком был для Инны старшина Василий Олексич, и она невольно тянулась к нему в поисках тепла и недоумевала порой, что связывает его, такого простого и хорошего, с противным лейтенантом Рожков-ским. Рожковского девушка сразу же невзлюбила. Повода для этого он не давал никакого, однако у неё вызывала брезгливость его постоянная неряшливость и особенно чёрная кайма под ногтями, которую он изредка, не стесняясь присутствия санинструктора, вычищал концом финского ножа. Раздражала его манера уснащать речь афоризмами и ссылками на древних мудрецов, способность смотреть на человека как сквозь него. Словом, всё было не так.
Инна не понимала причину своей антипатии к лейтенанту, и это тоже являлось дополнительным поводом для антипатии, словно и в этом был виноват Рожковский. Когда она узнала, что он в прошлом имел звание майора и был понижен в звании до лейтенанта, то даже обрадовалась: так ему и надо! Однажды она попыталась упрекнуть старшину, что он водит компанию с плохим человеком. Что их связывает? Неужели только стопка водки, к которой они оба питают слабость?
Стараясь не обидеть доброго Василия Олексича, она высказала это по своему обычаю не прямо, а намёками. Однако старшина понял и не обиделся. Он неожиданно для неё погладил её ладонью по голове, как гладят, лаская, маленького ребёнка, вздохнул и произнёс задумчиво, вроде бы про себя: «Плохие люди очень даже хорошими показывают себя снаружи… Жизнь, дочка, это такая штука — спотыкается пристяжная, а кнут кореннику достаётся». Инна сообразила, что ляпнула глупость, смутилась, но отношения к Рожковскому не изменила. Впрочем, он об этом не знал, он попросту вообще не замечал санинструктора батареи и, встречаясь, смотрел на неё иногда вопросительным, и иногда тем самым «сквозным» взглядом, который так не нравился Инне.
Но Рожковский был исключением, с остальными ребитами батареи Инна дружила. Строгого, неулыбчивого, озабоченного, казалось, только состоянием своей пушки сержанта Русанова она побаивалась, но чувствовала необъяснимую симпатию к этому человеку, чем-то напоминающему ей туго скрученную пружину. От него исходили уверенность в силе и то самое спокойствие, которых не хватало маленькому солдатику Холодову, всегда смотрящему на медсестру глазами влюблённого в свою учительницу первоклассника, или балагуру и задаваке Ромашкину.
Этот был горазд на все руки: знал несчётное количество анекдотов и смешных истории, мог сыграть на баяне, гитаре и даже губной трофейной гармошке, мог спеть «с надрывом» цыганский романс. Инне поначалу претила его постоянная, демонстративная готовность услужить ей, но вскоре она убедилась, что, выставляя себя этаким ловкачом, любителем «сачкануть», Ромашкин на самом деле легко брался за любую работу, если надо было помочь товарищу, и шуточки нисколько не мешали ему делать это быстро и добросовестно. С услужливостью Ромашкина и было, кстати, связано его прозвище «рыбак».
Как-то во время короткого отдыха между боями, когда Инна собиралась устроить себе постирушку и «головомойку», он заявился к ней в палатку. Дело было уже под вечер, и она спросила, зачем он пожаловал. Ромашкин пожаловался на сердце. Инна не поняла, а когда до неё дошёл смысл ромашкинских слов, сказала, что в подобных случаях великий знаток человеческого сердца Владимир Владимирович Маяковский советовал «блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». Ромашкин ответил, что с удовольствием принял бы совет великого поэта, но, к сожалению, кто-то оказался более проворным — дров уже целый ворох лежит возле палатки, не даст ли ему медсестричка задание потруднее. «Дам, — согласилась Инна, чтобы отделаться от него. — Сходи на реку и излови несколько хороших рыб, а я утром на завтрак ухи вам сварю». Ромашкин немедленно отправился в расчёт за напарником. Однако, зная его каверзный характер, никто не согласился идти с ним на ночь глядя, хотя кое-кто из ребят с удовольствием порыбачил бы. Он пошёл один, едва забрезжило утро, и нарвался на заслон соседнего полка. Сперва его приняли за вражеского разведчика, потом за дезертира, пробирающегося в тыл. Капитан Комеков, которому в конце концов сообщили о задержании его артиллериста, привёл Ромашкина только к обеду. Ухи, конечно, не было, но смеху и шуток — в избытке.
Не смеялись лишь Пашин и Мамедов. Пашин только-только оправился от контузии, сильно заикался и вообще не мог смеяться, потому что его душил нервный кашель при мало-мальском возбуждении. А щеголеватый сержант Мамедов считал, что это не по-мужски смеяться над попавшим в беду товарищем. «У нас в Баку так не поступают», — строго говорил он. Командир первого орудия всегда был справедлив. Красивый картинной красотой легендарного абрека Заура, в кинематографическую удаль которого Инна была влюблена с детства, он невольно обращал на себя внимание, видимо, знал свою неотразимость перед женщинами и немножко рисовался. Сперва Инна поглядывала на него с опаской и чуть что — сразу же топорщила локти. Но вскоре пригляделась и успокоилась. Неизвестно, каким был Мамедов «у нас в Баку», как обращался с девушками, но к Инне относился хорошо. Заигрывал, правда, частенько, любезничал, говорил цветастые восточные комплименты, но его ухаживание не обижало — оно было интересным, весёлым, без всяких двусмысленностей и нарочито гласным: наедине Мамедов не разрешал себе никаких вольностей и даже, случалось, переходил на «вы». А вот капитан Комеков…
![Урсула Ле Гуин - Индеец с тротуара [Сборник]](/uploads/posts/books/276971/276971.jpg)

![Пол Андерсон - Кокон [ Межавт. сборник]](/uploads/posts/books/72467/72467.jpg)