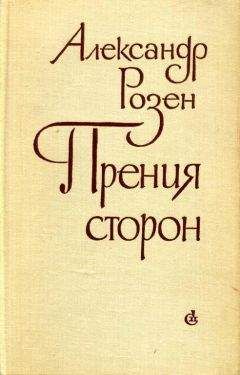Александр Розен - Полк продолжает путь
Обо всем этом Ларин доложил командиру полка.
— Так, — сказал Смоляр. — Значит, чрезвычайное происшествие?
— Чепе, товарищ подполковник.
— Не успели обосноваться, и уже чепе, — покачал головой Смоляр. — Безобразие! Ну что ж, пиши рапорт. Завтра отправим этих троих в Кирики.
— Слушаю, товарищ подполковник. Разрешите доложить, с этими людьми я вместе воевал. Выражают желание остаться у нас в полку…
Смоляр задумался. Не так давно к нему явились двое его сержантов, заявив, что досрочно выписались из госпиталя. Смоляр обрадовался, а госпитальное начальство тем временем написало жалобу. Выговор получил командир полка.
— Извольте написать рапорт и все изложить, — повторил Смоляр раздраженно. Потом подумал и, вздохнув, прибавил: — Буду ходатайствовать перед командиром дивизии об удовлетворении твоей просьбы.
В другое бы время Смоляр еще долго говорил об этом чепе, и Ларину пришлось бы выслушать немало горьких слов о падении дисциплины и о нерадивости командира дивизиона. Но сейчас Смоляр молчал и только хмурился. Ларин хорошо знал командира полка и чувствовал, что Смоляру хочется поговорить совсем о другом. Днем Смоляр созывал у себя офицеров и поставил боевую задачу. Сейчас ему хотелось поговорить по душам. Так уже бывало не раз за годы войны, и оба любили эти задушевные разговоры.
— Здесь надо отличиться, понимаешь, отличиться, — говорил Смоляр, по-видимому вкладывая в это слово особый смысл. — Противник располагает превосходящими силами… Немцев бьют на Украине, и здесь они стремятся взять реванш. Сбросить нас в Ладожское озеро и снова замкнуть Ленинград. Надо отличиться. Все силы отдать.
— У меня сил хватит, товарищ подполковник, — сказал Ларин.
— Отличись…
— Я…
— Тш… тш… — прошептал Смоляр, прислушиваясь. — Тш… — Он поднял вверх указательный палец, призывая и Ларина прислушаться.
В тишине, по-особому глубокой на фронте, Ларин отчетливо услышал стук идущего поезда. И оттого, что от них до поезда все же было не близко, стук этот казался настороженным.
— Поезд… — сказал Смоляр тихо. — В Ленинград… — и опустил голову, словно ожидая удара. И вслед за ним Ларин тоже невольно склонил голову.
Прошло несколько минут, и сильный удар разбил тишину. Ударила немецкая батарея. Смоляр и Ларин еще ниже опустили головы. Они сидели неподвижно и молча, вместе думая о том самом главном, ради чего они и оказались здесь.
Было слышно, как разговаривают бойцы.
— С высот-то ему удобно стрелять. Он все видит.
— Да. А мы его не видим.
— Ни черта! Завтра наш полк начнет стрелять, — сказал чей-то густой голос, — то будет песенка другая.
Смоляр поднял голову.
— Мы, мы, мы… — сказал он ворчливо. — Вот привычка. Мы пришли, так мы и немецкие батареи на высотах найдем. На то ведь и мы, а не соседи.
Но Ларин чувствовал, что фраза, сказанная бойцом, понравилась Смоляру, и он это только скрывает своим ворчливым тоном.
Видимо, Смоляр ожидал, что бойцы будут продолжать разговор, но бойцы разошлись. Смоляр взглянул на Ларина и вдруг рассмеялся.
— О чем задумался? С утра начнем стрелять, немцев пощупаем.
Для Ларина началась обычная перед боевой операцией жизнь. Работы было много. День за днем разведчики раскрывали систему немецкого огня, и ежедневно Ларин наносил на свою схему новые, хитроумно замаскированные немецкие орудия, пулеметные доты и проволочные заграждения — все то, что предстояло уничтожить его дивизиону.
Командир дивизии разрешил трем бойцам из стрелкового батальона «дальнейшее прохождение службы в артиллерийском полку». Афанасьев служил теперь в отделении разведки, гигант Вашугин работал номером в первой батарее. Семушкин был зачислен связистом. Ничем до сих пор он себя не проявил, но и жалоб на него не было.
Расчеты пристреливали разведанные цели, но работать было трудно. Немцы с высот кидали огромные «чемоданы».
Со Смоляром Ларин виделся редко. Батя командовал теперь группой поддержки пехоты. По целым дням он пропадал в приданных подразделениях, а своих людей больше для порядка «разносил», и после каждого такого «разноса» следовало одно и то же заключение:
— Вы уже не дети, и я вам не нянька. Кое-чему я вас научил, извольте-ка проявлять самостоятельность.
— А у нашего Смоляра и в самом деле есть сходство с нянькой, — тихо посмеиваясь, заметил Хрусталев и подмигнул Ларину. — Старая нянька, которая ежели возьмется за палку, так больше для острастки. Что, Ларин, не верно?
Ларин пожал плечами, но ничего не ответил. С того памятного дня они с Хрусталевым не разговаривали, хотя и относились друг к другу подчеркнуто вежливо. В полку этого никто, кроме Макарьева и замполита Васильева, не замечал. «Неужели и Батя не замечает? — думал Ларин. — И как это он притерпелся к Хрусталеву? «Давно в полку. Ветеран. Вместе службу начинали». Фу ты, черт, неужели и это имеет значение? А может быть, имеет значение то, что Хрусталев никогда не выступает со своим мнением и на совещании как-то особенно умеет поддержать Смоляра? И этого командир полка не замечает?»
При Бате Хрусталев всегда подчеркивал свою «кадровость»: «Приписники — люди восторженные, а мы, мол, знаем, почем пара гребешков», «Мы, Ларин, не студенты, чтобы ночи не спать». Ларина он называл то «доктором», то «академиком», то «демократом». И всегда так, чтобы слышал Батя. Выходит, что, если я не режусь в преферанс, а читаю Чехова, значит, я «доктор», а если дружу с рядовым бойцом, то «демократ»? Самая обыкновенная пошлость.
При Грачеве эти штучки не очень-то Хрусталеву сходили. Помнится, еще в сорок первом году послали Хрусталева в Ленинград. Приезжает обратно. Грачев спрашивает: «Ну, как в Ленинграде?» Хрусталев, «человек кадровый», отвечает: «Противник бьет по городу преимущественно беспокоящим огнем. Гражданское население, конечно, страдает». Так Грачев прямо затрясся: «Гражданское население!» Вы где этому научились? Это же ленинградцы, ленинградцы, а не «гражданское население». И не «страдают», а гибнут на боевых постах. И не «конечно», а к великому нашему горю и стыду, и не «противник», а фашисты. Понимаете, фашисты, ироды, сволочи, людоеды!..»
— А мне жаль Васильева, — откровенно признался Макарьев, — служить с таким Навуходоносором куда как приятно! Он же всех политработников неучами считает. Чуть что — «демагогия»…
— Почему Навуходоносор? — спросил Ларин смеясь.
— Да как же! Тот тоже к власти стремился. А Хрусталев спит и видит, как бы ему командиром полка стать.
— Ну, уж это ты, друг, хватил, — сказал Ларин, покачав головой.
— Навуходоносор, — сказал Макарьев убежденно.
Август прошел незаметно. Незаметно стали удлиняться ночи. Уже на постах стояли в шинелях, а в сентябре затрещали походные печки. Зачастили дожди, болотище расползалось. Пуды грязи на сапогах перетаскивались. Понаделали настилы от штаба в дивизионы, к батареям и орудиям, но их размывало. Ночные туманы сдавливали грудь — дыхание перехватывало.
Теперь, когда поблекли яркие летние краски, болото, на котором воевал полк, окончательно развезло, и все увидели его безобразие. Осень словно подчеркнула, что на этих безрадостных местах можно только воевать.
Почему-то Ларин не мог представить себе осени в Ленинграде. Он не мог и не хотел расставаться с Ленинградом летним, открытым солнцу, небесной и морской синеве. Таким он видел Ленинград в последний раз, таким он видел его, читая Ольгины письма. В этих письмах было много любви и мало быта, а это верное средство против разлуки.
Они писали друг другу часто, иногда каждый день. Ларин уже привык к девушке из полевой почты, которую в полку за гордую осанку прозвали «Королевой». Высокая, прямая, с венцом массивных рыжеватых кос, и в самом деле похожих на корону, девушка приходила к Ларину и в землянку, и даже на наблюдательный пункт. Опасность не страшила ее, и во время сильного обстрела на ее красивом лице появлялось презрительное выражение.
— Ползком, ползком! — кричал ей Ларин, издали заметив Королеву. А та шла к нему во весь свой великолепный рост, шла — всегда долгожданный и добрый вестник.
Ранним туманным утром Ларин получил приказ. В бою его дивизион должен был поддерживать батальон Снимщикова. Ларин обрадовался. Первая мысль была: «Повезло».
Снимщикова он любил, но отношения с ним были совершенно иными, чем со Смоляром.
Ларин знал, что именно Смоляру он может поверить самое свое сокровенное. Новые мысли возникали у Ларина после разговора с Батей. Никаких особых слов Смоляр не произносил, да и не знал их. Сила Смоляра была в его прямолинейности. Его слова как бы прокладывали главную дорогу, на которую хотелось выйти.
Со Снимщиковым Ларин никогда не вел задушевных бесед. Он любил Снимщикова за веселый и верный характер, и их отношения, однажды сложившись в приятельские, такими и остались.