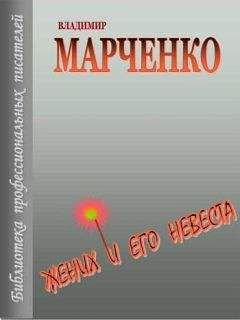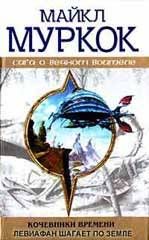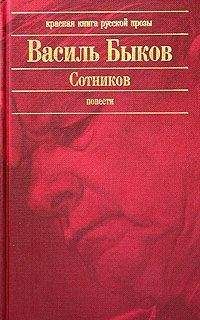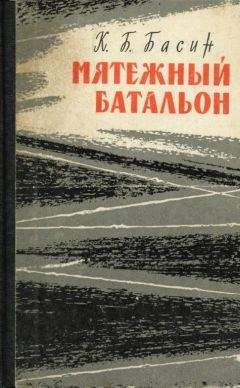Владимир Кашин - С нами были девушки
— За этим мы и пришли, — заволновался Грищук.
— Можно послать в Бухарест и те твои материалы, которые не войдут в официальный документ, — обратился Смоляров к Андрею. — И не откладывая, одновременно с протоколами дознания. В случаях, подобных такому исключительному событию, военный суд делает свое дело быстро.
— Неужели так и трибунал? — вырвалось у Грищука.
— Очередное политдонесение я еще не отправил, — продолжал замполит, не замечая невыдержанности офицера. — Как исключение, разрешается посылать его не спецсвязью, а нарочным… — Он бросил взгляд из-под сомкнутых бровей на молодых офицеров и опять подтянулся к портсигару.
— Поручите мне! — попросил Андрей. — Я… я… все сделаю.
— Нет… Политдонесение повезет Грищук… И обратится там к полковнику Твердохлебу, а тот уже доложит члену Военного совета. Это именно тот человек, который имеет возможность смотреть на события шире, чем мы с вами. Он может полностью оценить все, что случилось. Так что вам, Земляченко, надо переписать дознание, как требует командир. Ясно? А затем снова поедете на место, где упал самолет. — Андрей вопросительно смотрел на замполита. — Надо побывать и в ближайшем селе, поинтересоваться, может, американец что-нибудь сбрасывал. Все это надо знать…
2
Андрей возвратился в офицерское общежитие и со злостью швырнул на стол папку с материалами расследования. Потом сел, медленно потянул папку за тесемку. Обложка открылась, будто подтолкнутая из середины. Он вздохнул и тоскливо посмотрел на бумаги: «Неужели придется выбросить все, что хоть как-то смягчает вину?»
Нет, он не чувствовал в себе для этого сил — перечеркнуть свои родившиеся в муках надежды… соображения, которые помогут судьям все понять… спасут ее… И снова Андрею стало страшно, снова вспомнился суд над курсантом училища и выразительный приговор: «Направить в штрафной батальон…»
Но что поделаешь — приказ надо выполнять, переписать все как полагается… А потом что? Этого Андрей не мог представить. В голове перемешались советы Грищука, обещание Смолярова.
Земляченко обхватил голову руками. Он сейчас уже не понимал советов, не верил обещаниям. На бумаге, на столе, на окне — куда бы он ни посмотрел — светились ее глаза, прозрачные, глубокие, как осенние озера. Усилием воли лейтенант заставил себя вернуться к окружающей действительности. «Да, надо браться за дело!»
Перо забегало по бумаге. Лаконичные официальные фразы ложились одна за другой. То и дело он посматривал на часы. Казалось, что время мчится с небывалой быстротой… Но вот наконец написаны заключительные слова. Теперь осталось поставить подпись. Только на мгновение задумался Андрей перед тем, как вывести свою фамилию. В это мгновение ему снова захотелось на клочки разорвать бумаги. Но разве от этого что-либо изменится?.. И он решительно подписался. Потом быстро собрал разбросанные по столу листы, сложил их в папку и отнес делопроизводителю части…
И все же после этого у Андрея не появилось чувства, что дело сделано. Походив несколько минут по коридору, он остановился возле открытого окна и начал жадно вдыхать свежий воздух.
Среди двора стояла полуторка. В кузов, где с винтовкой в руках и вещевым мешком за спиной примостилась девушка-солдат, заглядывала, встав на подножку, Давыдова.
«Новенькую везут на ноль девять», — догадался Земляченко и выбежал во двор.
Давыдова спрыгнула на землю, поприветствовала его.
— На пост? К себе? — спросил лейтенант.
— Так точно!
— И я с вами, — Андрей мгновенно очутился в кузове. Давыдовой не оставалось ничего другого, как сесть в кабину. Прозвучал сигнал, и автомашина, покачиваясь «а рессорах, покатилась со двора.
Выехали за городишко, в котором располагался штаб батальона. Лейтенант, углубленный в свои невеселые мысли, ничего не замечал вокруг. А по обе стороны асфальтированной дороги проплывали полоски полей, поросшие необломанной желтой кукурузой, одинокие домики, обвитые виноградом, посадки бука и граба. Здесь жил и трудился незнакомый Андрею народ.
Недалеко от того места, где надо было поворачивать на грунтовку, бежавшую на пост, машина поехала тише, а потом совсем остановилась. Андрей точно проснулся. Он соскочил на землю и на прощание махнул Давыдовой рукой.
До соседнего с постом села было недалеко. Земляченко знал эту дорогу. Он проезжал здесь, когда начинал дознание. Тогда на командирском «козле» он добрался к месту, где сгорел американский самолет, и долго ходил вокруг, надеясь найти что-нибудь в доказательство невиновности Зины. Но ничего, кроме обгорелых обломков, разбросанных взрывом, на месте события не оказалось…
Вскоре Андрей увидел полосатый шлагбаум, перекрывавший дорогу в село. У шлагбаума торчал жандарм в полной форме, в начищенной до блеска медной каске с петушиным пером. Держа в руке веревку от шлагбаума, он что-то выговаривал пожилому крестьянину. Тот, склонив голову, стоял возле своей лошаденки, запряженной в телегу — каруцу, на которой лежал небольшой бочонок, наверно с вином.
— Ты, Ион, совсем с ума сошел? Кто тебе, дураку, сказал, что отменили пошлину за выезд? Кто может отменить закон самого короля Михая? Нашей мамы Хелены?[5]
Крестьянин кивал головой в такт энергичным фразам жандарма. Но стоило тому умолкнуть, как он заводил свое:
— Господин, нет у меня сейчас денег. Вот продам в городе вино, тогда и заплачу…
Толстый, сытый жандарм засмеялся.
— О, ты, Ион, не такой уж и дурак! Но только и я не потерял голову, — и он покрутил кончик своего толстого черного уса. — Когда будешь возвращаться, придется тебе платить уже въездное. — Вдруг он перестал смеяться и заорал: — А ну, прочь отсюда! Поворачивай клячу!
Земляченко подошел ближе. Он не знал румынского языка, но униженная поза бедняка, окрики королевского слуги говорили сами за себя. Знаками спросил жандарма, почему не поднимает шлагбаум. Увидев советского офицера, тот снизил тон и, козырнув, начал объяснять лейтенанту, мешая румынские фразы с немецкими, что крестьянин отказывается платить налог.
Хотя Андрей совсем недавно попал в Румынию, он уже слышал, что королевское правительство облагает народ всевозможными налогами.
Чтобы выехать из дому в город, крестьянину нужно было платить выездные, потом проездные по дороге, мостовые, если приходилось проезжать через мост, въездные в город. Церемония оплаты повторялась и на обратном пути. В каждом селе были шлагбаумы, возле которых дежурили жандармы.
Земляченко не хотелось вмешиваться в этот спор. Советские войска только вошли в эту чужую страну с ее крутыми, странными для нашего человека порядками. Смоляров провел несколько бесед о строжайшем запрете вмешиваться в дела румынского населения. А сейчас Андрею вообще было не до румын.
Но сердце его сжалось от боли за униженного бедолагу. Слушая болтовню жандарма, Земляченко зло смотрел на него, словно хотел сказать: «Ах ты гадина! Привык издеваться над людьми! Сейчас ты меня приветствуешь, почтительно улыбаешься, а поймал бы месяц назад, ремни бы из меня резал!» На ум пришло:
С каким наслажденьем
Жандармской кастой
Я был бы исхлестан и распят
За то, что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
— Ну врей сы платешть? Интерчете акасы![6] — с этими словами жандарм хотел схватить коня за удила и повернуть его назад, но, заметив злой взгляд лейтенанта, шепотом выругался и отпустил веревку шлагбаума. Полосатая жердь поползла вверх.
Крестьянин, не веря своим глазам, изо всей силы стегнул лошаденку по спине и побежал рядом с каруцей. Андрей с жалостью посмотрел, как подпрыгивают по комьям его худые, обутые в рваные постолы ноги, и пошел дальше.
Приглядываясь, он дошел до дома, который стоял в центре села. Здесь помещалась кыршма[7]. Крестьяне заходили сюда больше для того, чтобы поговорить, узнать новости, чем просто пить кислое красное вино или самодельную цуйку. Иногда появлялся в кыршме местный скрипач, и тогда на всю улицу звучали грустные мелодии чабанских песен — дойн.
Поравнявшись с трактиром, лейтенант заметил, что там собралось много народу. Было воскресенье, и крестьяне оделись по-праздничному. Они сидели на скамейках у столиков за небольшими графинчиками вина. Слышался приглушенный говор. «Еще не вся Румыния освобождена, а для них будто давно война закончена», — подумал Андрей.
То ли потому, что у него пересохло в горле, то ли подсказал какой-то внутренний голос, он зашел в кыршму. Надо же было поискать людей, собственными глазами видевших гибель самолета! А вдруг какие-нибудь новые подробности?..