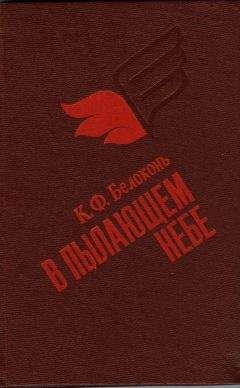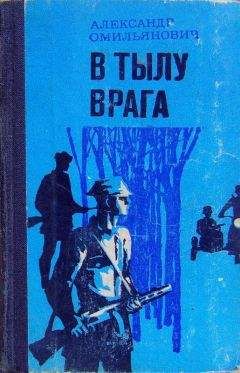Николай Горулев - Прощайте, любимые
— Так я пойду, — сказал Федор, а сам стоял и смотрел на колеблющийся свет лампы. Вроде бы и ветра в доме не было, а пламя почему-то колебалось то вправо, то влево.
— Иди, Федор. Спасибо за заботу. Как-нибудь перевьемся. Я на огороде такую траншею выкопала, что ни один солдат такую не сделает. Там нас с Катей и маленькой никакая бомба не достанет. А даст бог и дом уцелеет. Твои-то куда собираются?
Федор не знал, что ответить, — он дома еще не был, а сразу побежал сюда.
— Вот батьке твоему надо собираться — он первый и бессменный председатель и коммунист — тут засиживаться нельзя.
— Ну, тогда до свидания, — сказал Федор и направился к двери. Как он хотел сейчас, чтобы Катя пошла его проводить, хотя бы за дверь вышла. И, словно прочитав его мысли, Ксения Кондратьевна сказала:
— Иди закрой за человеком дверь, На крыльце Федор спросил;
— Катя, почему ты молчишь?
— А что я отвечу, Федя? Одна я без малышки никуда пойти не могу, а с ребенком мне мама первая помощница. У нас тут свой дом, свой кусок хлеба, своя картошка и свекла, а там кто нас примет, кто нас ждет? Ютиться у чужих людей? Да и примут ли?
— Примут, я договорюсь. Я, если хочешь, сейчас с отцом обо всем потолкую, а он, в случае чего, возьмет вас с собой.
— Нет, Федя, никуда я отсюда не пойду. И отца беспокоить не надо. И никого.
— Неужели ты не боишься, что тебя могут арестовать и убить?
— А чего мне бояться? — как-то отрешенно сказала Катя. — Все мои страхи уже позади. Убили Володьку, пусть и меня убивают, а мама как-нибудь вырастит внучку. Так что спасибо, Федя, до свидания.
Федор хотел здесь, на крыльце, первый раз поговорить с Катей откровенно, рассказать ей все, о чем передумал он за два года после ее возвращения с Дальнего Востока. Хотел признаться/что, кроме Кати, для него нет никого на свете. И, наверное, Федор сказал бы это, если бы не последние слова Кати про убитого мужа. Они снова, как ножом, перерезали те слабые нити, которые протянулись между Федором и Катей, перерезали и сделали их снова далекими и чужими. Катя до сих пор любит Владимира и без него не видит никакого смысла в этой жизни. Значит, не пробьется Федор к ее сердцу, не станет ей близким и необходимым человеком. О чем можно было говорить после этого?
— Ну, счастливо, Катя. Не поминай лихом.
— А ты куда? Тебя ж не мобилизовали? — спросила Катя.
— А я сам себя мобилизовал, — с неожиданным вызовом ответил Федор. — Вместе с комсомольцами института. Будем в отряде ополчения оборонять город.
— Ну, что ж, живы будем, встретимся — грустно сказала Катя. — На рожон не лезь. Может, и выживешь. Прощай.
Федор очень не любил этого слова. Оно несло в себе столько страдания, что он не хотел даже его произносить.
— Не прощай, а до свидания, — поправил Катю Федор.—Сама ведь говорила — если живы будем, встретимся...
— Так то ж если живы... — снова грустно сказала Катя и вдруг взяла Федора за голову и слабо поцеловала в щеку. — А это на память. Ну, ни пуха тебе ни пера.
— Положено посылать к черту, да как-то не хочется, — сказал. Федор.
— А ты пошли, — попросила Катя. — Потому что у нас с тобой все равно ничего не получится.
Федор, как пьяный, сошел с крыльца и побрел домой, перебирая в памяти все, что говорила Катя в этот вечер. Он не слышал, о чем рассказывала ему мать. Понял лишь, что отца срочно вызвали в райком...
Сергей чутко прислушивался к звукам звездной июльской ночи. Он устроился возле густого ивового куста и видел светлый полог неба над темным лугом. Если бы кто-нибудь появился на лугу, его силуэт был бы сразу заметен на фоне светлого неба.
Он лежал и думал о том, что война только начинается, а в жизни его произошли такие перемены, которых хватило бы на несколько лет.
Сергей всегда был дружен с отцом и матерью. Особенно с отцом. Он был для него примером для подражания. Сергея привлекали в отце его простота в обращении с людьми, с которыми он удивительно быстро сходился, его умение неторопливо принять правильное решение, его располагающая откровенность.
Сергей платил тем же. И отец и мать знали о делах его, знали о Вере, знали, что их единственный сын пойдет за этой девушкой в огонь и воду. Но вот пришел день, когда надо было решать — оставаться в городе, к которому рвется враг, или уезжать вместе с другими на восток. Улучив момент, когда сын на какие-то считанные минуты забежал домой, отец сказал:
— Нам надо поговорить, Сережа, — О чем? — торопливо проглатывая подогретый обед, спросил Сергей.
— Ты только не спеши, — попросил отец. — Речь идет об очень серьезных вещах. Нам с матерью предложили эвакуироваться. Поначалу в Рославль, а там кто знает. Тебе еще рано на фронт — поедем с нами.
Сергей был так удивлен, что кусок застрял у него в горле.
— Папа, я боец народного ополчения.
Отец смутился, а потом посмотрел на мать и сказал, словно размышляя вслух:
— Видишь ли, ополчение — дело добровольное, хочу вступаю, хочу нет. Ты вступил из самых добрых побуждений и еще потому, что находишься рядом с нами, в семье. А теперь мы уезжаем и хотим, чтобы ты был с нами.
Сергею есть уже не хотелось. Он встал из-за стола и начал вышагивать по комнате из угла в угол.
— Да перестань ты метаться, сынок, — попросила мать, — у меня уже голова кружится от твоего хождения.
— А у меня голова раскалывается от того, что я услышал сегодня, — как можно мягче сказал Сергей. — Вы всегда учили меня искренности, порядочности, справедливости, в конце концов. Все мои ребята будут драться под стенами родного города с фашистами, а я, согретый заботами папы и мамы, отправлюсь на восток. Так я вас понял?
— Зачем же в таком тоне? — с обидой спросил отец. — Насколько мне известно, ты всегда был окружен заботой и папы и мамы, и ничего плохого я в этом не вижу. Благодаря этой заботе ты отлично закончил десятилетку, успешно сдал экзамены, а сейчас без пяти минут преподаватель среднего учебного заведения.
— Нету больше этих пяти минут, нету! — сорвался Сергей и почувствовал, что зря повысил голос. — Этих пяти минут уже нету, и неизвестно, будут ли они... — задумчиво продолжал он, стоя в углу, возле этажерки. — Речь идет не о преподавательских планах. Тут вопрос жизни и смерти. Будет ли в природе наша советская школа, наши учителя, наша родина, наконец...
Мать тихонько, почти беззвучно заплакала.
— Нам предложили ехать, и мы обрадовались, что можем увезти тебя отсюда. Говорят, в Могилеве будут решающие бои. А ты ведь еще ребенок и не понимаешь, что бои — это прежде всего жертвы...
— Как вам не стыдно, мама? С какими глазами я уйду из города, оставив в беде свой институт, своих друзей? Нет и еще раз нет. Вы действительно можете ехать. Больше того, вы обязаны ехать — это распоряжение городского штаба народного ополчения. Будут поезда, вагоны. И вам обязательно надо ехать. Мало ли что здесь может случиться. А потом, когда на Днепре с фашистами все будет кончено, вернетесь, и все пойдет по-прежнему.
Мать подняла заплаканные глаза на отца и молчала. Молчал и отец. Сергей видел, что отец вынужден принять решение и взвешивает все за и против.
— А ты знаешь, — сказал отец каким-то дрогнувшим голосом, — что, кроме тебя, у нас никого нет?
— Папа...
— Нет, ты отвечай на поставленный вопрос, — попросил отец.
— Что же из этого? — Сергей сел за стол, обхватив голову руками. — Пусть все родители, у которых по одному сыну, увезут их подальше от войны, и пусть другие, у кого сыновей побольше, защищают тех единственных сыновей? Папа, я отказываюсь тебя понимать...
Какое-то время продолжалось молчание. Отец вышел в свою комнату, долго возился в письменном столе; потом закурил и вышел. Он несколько раз подряд затянулся, что свидетельствовало о его сильном волнении. Так же, как и Сергей, прошелся он по комнате из угла в угол и занял место Сергея возле этажерки.
— Ты наседка, — сказал он вдруг, обращаясь к матери. — Наседка, которая накрывает крылом своего единственного цыпленка. Я ведь тебе говорил, что из этой затеи ничего не получится... И мальчик прав — почему кто-то обязан, а он не обязан. И пусть твоя Олимпиада Романовна не тянет нас в дорогу, да еще с Сергеем, — у нее так много узлов, что нам будет слишком тяжело.
— Вы оба ненормальные! — вспыхнула мать. — Оба... Сереже простительно — он молод, он еще многого в жизни не понимает, у него, в конце концов, в этом городе любовь. А у тебя что?
— У меня тоже любовь.... — строго сказал отец и кашлянул. Сергею показалось, что он проглотил подкативший к горлу комок.
— У меня тоже любовь... — повторил отец, — и я от нее никуда не уеду. Иди, сынок, занимайся своими делами. И береги себя. Ты меня понял?
— Понял, отец.
— Вот так... — Отец еще раз затянулся и ушел в свою комнату, прикрыв за собой дверь.
— Сереженька, сыночек, убьют они тебя... — запричитала мать, сидя за столом. — А у тебя еще все впереди, вся жизнь... Уедем отсюда, сыночек.