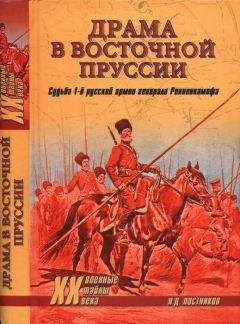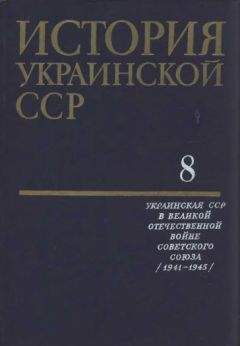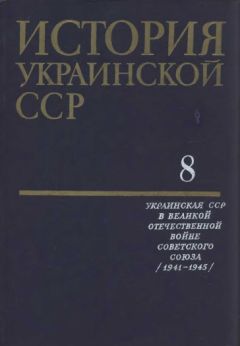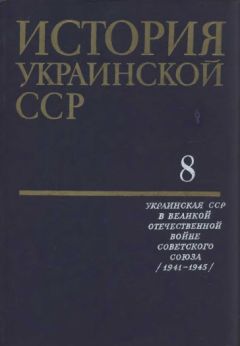Наполеон Ридевский - Парашюты на деревьях
— Схожу на хутор, может, молока или хоть воды принесу, — предложил Генка.
— Нет, одному нельзя. Придется потерпеть, — ответил я, хотя чувствовал, что долго мы так не протянем.
За вторую ночь проковыляли около километра. На дневку вновь остановились в поле, под небольшой группой елочек. Утром осмотрелись — кругом был песчаный пустырь с редкой травой, кустами можжевельника.
Тихо было часов до десяти. Потом приехали три большие крытые автомашины. Они остановились вблизи нас. С веселым шумом повыскакивали подростки, такие, как Генка, а затем вылезли и старики. Это были фольксштурмисты. Мы решили, что пришел нам конец, что нас выследили. Приготовились к бою. Я достал и положил рядом запасные диски к автомату, гранаты. То же сделал и Генка.
Раздалась команда строиться. Разделившись на три группы, фольксштурмисты прошли мимо нас на середину поля.
«Почему они не стреляют? Решили взять живьем?» — спрашивал я сам себя.
Но вот мы увидели, что под команду унтеров фольксштурмисты начали заниматься строевой подготовкой.
Мы поняли, что находимся на учебном поле, приспособленном для обучения новобранцев. Через несколько часов фольксштурмисты уехали. Но до вечера было еще много времени, и мы понимали, что опасность не миновала. Так оно и было. После обеда приехала новая группа. Эти уже занимались стрельбой фаустпатронами по расставленным щитам-мишеням. Инструктора показывали новичкам приемы стрельбы.
Руководитель всей этой команды, высокий гитлеровец с перетянутой талией, в фуражке с огромным козырьком, отошел в сторону от грохочущих взрывов фаустпатронов и прогуливался вдоль елочек, под которыми мы прятались.
Когда воинство уехало, Генка сказал:
— Здорово лупят эти их фаусты!
— Да, здорово, фауст по-немецки — это кулак. Кулак против танков. Заряд такой, что пробивает броню. Словом, штука эта мощная.
Перед наступлением сумерек я развернул карту. Нужно было идти на хутор — добывать продукты. Мы в буквальном смысле слова еле волочили ноги. Да и третьи сутки глаз не смыкали. Боль в ноге вроде притупилась.
Попасть на хутор нам следовало в первую половину ночи, пока не взошла луна.
НАМ ПЕКУТ ХЛЕБ
Когда наступили сумерки, мы покинули свое злополучное место и пошли дальше. Хотелось как-то доковылять до лесного массива, где можно более или менее надежно спрятаться, отдохнуть. От бессонницы и боли я основательно ослаб, Генка тоже устал со мной, но оба мы старались друг другу не показать этого.
Возле леса, немного левее от направления нашего пути, увидели огонек в окне — значит, близко хутор.
— Попробуем счастья? — спрашиваю у Генки.
— Давай, — с готовностью ответил он. Казалось, что Генка боялся, как бы я не передумал: ясно, пареньку тяжелее переносить голод, чем взрослому.
Хутор был не так близко, как казалось. Пока подошли к нему, огонь погас.
Возле дома осмотрелись, постояли, прислушались: ничего подозрительного вроде нет. Дом маленький, старый, под одной крышей с гумном и сараем. Вокруг дома — несколько старых деревьев. Ни забора, ни ворот нет. Между хутором и лесом — еле заметная полевая дорога. Я поставил к стене свою палку, чтобы в случае чего руки не были заняты. Попробовал стать на больную ногу — она была как чужая, но, опираясь о стенку, подошел к крыльцу. Учуяв чужих, звонко залилась голосистая комнатная собачка. За дверью послышался шорох, щелкнул засов, и заскрипела дверь.
— Кто здесь? — спросила женщина, открыв дверь, но еще, видимо, не рассмотрев нас, ибо мы стояли прижавшись к стене.
— Солдаты, — отвечаю вполголоса, отходя от стены. — Нам нужен хлеб и еще кое-что из продуктов.
— Так заходите, — она пропустила нас вперед, закрыла за нами дверь. Я включил карманный фонарик.
Женщина одобрительно промолвила: «хорошо», а когда открыла дверь в хату — там уже горел свет.
Возле кровати, с которой, как видно, она только встала, стояла белокурая средних лет женщина, набросив на себя халат.
— Мама, кого ты привела? — В голосе ее чувствовалась тревога.
Перед ней были незнакомые люди в серых русских шинелях, шапках-ушанках, с толстоствольными автоматами. Лицо у меня заросло, посерело, на одной ноге сапог, другая — обвернутая портянкой. Генка с тонкой, вытянувшейся из широкого воротника шеей — только глаза светятся лихорадочным блеском. Что и говорить, мы представляли собой необычное зрелище.
— Солдаты! Разве сама не видишь, люди с оружием, — ответила старуха.
— Что им нужно?
— Хлеб, продукты.
— Но у нас же нет хлеба. Почему ты им не сказала?
— Жаль, что нет, — вмешался я в разговор.
— Да уж так не будет — найдем что-либо, — успокоила старуха.
В дверь из другой комнаты показалось заспанное лицо девочки лет пятнадцати-шестнадцати. Придерживая на груди наброшенный на плечи халат из дешевого расцвеченного материала, она с любопытством рассматривала нас.
— Мама, пригласи их сесть, — обратилась она к женщине, что стояла возле кровати.
— И правда, что же вы стоите у порога, проходите, садитесь, — засуетилась старуха, которая открывала нам дверь. — Это моя внучка, — показала она на девочку, — а это дочь.
— Спасибо, вот и познакомились. А где же ваши мужчины? — Я оперся о спинку стула, наступив коленом больной ноги на его сиденье.
— У вас больная нога? — как бы спохватившись, сочувственно спросила старуха.
— Да так — пустяки, — ответил я неопределенно.
Я посмотрел на подвешенную к потолку керосиновую лампу, и мне показалось, что она раскачивается, прыгает. Голод мутил сознание.
— Вы спрашиваете, где наши мужчины? — повторила она взволнованно. — Их нет! И у вас, очевидно, где-то есть матери, сестры, а вы здесь. Значит, и в ваших семьях дома нет мужчин. Вы — русские? — неожиданно спросила она.
— Русские. Боитесь?
— Нет. Что нам страх? Горе — вот наша беда. — Она подошла ко мне совсем близко. Испещренное морщинами старческое лицо, сгорбленные плечи, черные от работы руки — весь вид ее невольно вызывал уважение, сочувствие и доверие.
— Вы спрашиваете, где наши мужчины? — повторила она. — Их проглотила война! Мой муж погиб на русском фронте в 1915 году. Ее муж, — она показала на свою дочь, — тоже погиб на русском фронте в 1942 году. А где погибнет ее муж? — уже со слезами на глазах говорила она, показывая на внучку.
Почувствовав, что в этом доме нам не угрожает никакая опасность, мы с Генкой присели. Старуха подошла ко мне вплотную, положила руку мне на плечо. Это было так неожиданно, что я растерялся, не знал, что мне делать.
Этот жест, слезы, слова ее были так трогательны. Сначала мне показалось, что хозяйка упрекает нас за то, что ее муж и муж ее дочери погибли от русских пуль. Но нет, не то хочет сказать эта старая, по всему видно, прожившая нелегкую жизнь, немка.
— Где погибнет ее муж? — вся дрожа и плача, не в силах сдержать себя, повторяла она.
— Не нужно, бабушка. Успокойся, — обняв ее рукой за плечи, утешала внучка. — У меня ведь нет еще мужа — зачем же так…
— Они отнимут его у тебя, когда он будет. Они отберут! Когда этому наступит конец…
— Тише, мама, нельзя же так! — теперь уже и дочь подошла к старухе. Они еле успокоили ее, усадили на стул.
Возможно, впервые за долгие годы своей жизни в условиях террора, возненавидев войну и ее организаторов, старая немка высказала то, что было у нее на душе. Высказала открыто, не боясь.
Перед нами тоже впервые за все годы войны предстало лицо совершенно иной Германии, той Германии, которой приходится расплачиваться за развязанные бойни воинствующими фанатиками.
— Завтра заберут и ее, — уже спокойным голосом продолжала старуха. Она встала со стула и обняла свою внучку. — Трудовая повинность! Она завтра оставляет нас, моя любимая Эльза!..
Теперь уже слезы блестели на глазах всех трех хозяек — и внучки, и ее матери, и бабушки.
— Скоро всему этому придет конец, — сочувственно сказал я.
— Скорее бы, нет сил терпеть! — Старуха вытерла слезы.
Мы почувствовали себя в этом доме как среди своих людей. Согретые домашним теплом, совсем размагнитились, забыв об опасности.
— Надо же так случиться — как раз вышел хлеб, — наконец спохватилась старуха, вспомнив, за чем мы пришли. — Чем же вас накормить? Можно сварить картошку, поджарить яичницу.
— Мы не можем столько ждать. Это опасно и для нас, и для вас.
— Ничего. В нашем доме солдат нет, хотя во всех других они расквартированы. Вам повезло, что вы попали именно к нам. По соседству живет моя сестра, но вы обходите этот дом. Они — нацисты, богатые, с нами и знаться не хотят.
Женщина начала чистить картошку, здесь же, в этой комнате, была и плита. Оглянувшись на дочь — та как раз поправляла занавески на окнах, чтобы в просвет нельзя было подсмотреть, что делается в хате, — сказала ей ласково: