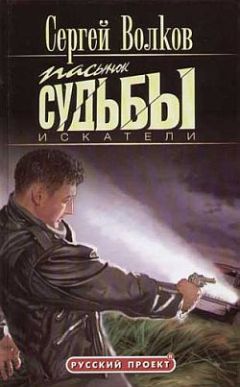Артем Драбкин - А мы с тобой, брат, из пехоты. «Из адов ад»
Седлец — это в Польше. После боев затишье. Наш батальон был уже собран. Нас построили: «Ну и вид у вас…» Но зато мы «Мертвой голове» дали…
— Как вы поступали с пленными?
— Не расстреливали, этого не было. Был у нас командир роты со странностями — то золото у ребят собирает, то еще что. Если попался немец, наводил на него пистолет, говорил: «Ну, мерзавец, даже не моргнет». Мы обращались по-суворовски: «Лежачего не бьют».
У нас было три грузина — «грузинское правительство» мы их называли. Командир роты, лейтенант Чхартишвили, командиры взводов лейтенанты Кахулия и Мазонашвили. Полным боевым порядком движемся. Вдруг остановка. Автоматчик соскакивает и шарит по кустам, нет ли там кого? У нас на танках были сетки наварены на штырях. Если попадает «фаустпатрон», то отлетает. Однажды выскочил калмык-фаустник из-под моста и трахнул по танку… Автоматчики соскочили, изрешетили его в пух и прах. Командир, казах Усманов, смелый, погиб от осколков.
— Когда обстреливали, десант сразу соскакивал?
— Нет. Когда танк остановится. Если обстреляли, колонна рассредоточивается. Полковник Жариков на танке в американском полушубке. Он не дрогнет. Как изваяние. Танки туда-сюда. А он сидит, как в бронзе.
…Сделали боевой марш аж до Одера. Там остановились, сразу не форсируешь, надо подготовиться. Вышли не в том месте. Хотели с ходу взять Франкфурт-на-Одере. Он на возвышенности, а этот берег очень низкий. Километра три не дошли — застряли танки в болоте. Некоторых вытащили, а нас — никак. Гусениц почти не видно. «Мессершмитты» летают низко-низко, почему не стреляли, непонятно, а других (бомбардировщиков) не было. Вообще, если в начале войны авиация немецкая действовала сильно, под Ржевом над нами кружили и делали месиво, то в конце я не чувствовал, что она есть. Хотя вот здесь, когда наша часть впереди, ночью пришла корпусная артиллерия и заполнила населенный пункт, а утром поднялись — их разбомбили в пух и прах, горели машины.
…Бегали в деревню, бревна брали и вытащили танк. Он зашел в деревню и спрятался, чтобы не видно было. Мокрые, надо бы перемотаться, прибежал в дом, схватил скатерть (на портянки) и бегом в погреб (а то авиация налетит), а там полно немцев. Гражданских. Снял свои сапоги, разорвал скатерть, перемотал портянки и сказал: «Ауфидерзейн».
Так как танк побыл в воде, весь затек, решили его оставить, сделать ревизию, очистить. Танк охраняли. Немцы ночью прорывались, увидели часового, расстреляли, побежали дальше. Так погиб сержант-сибиряк Останин.
— Потери большие там были?
— Большие — только в Ржевских лесах. А на Западе — маленькие. Стояли на Одере — обстрелы шли, нет-нет да и захватит кого-нибудь.
Уже на танках форсировали реку — здорово закрепились. Немцы применили новое оружие — летит самолет и вдруг выпускает еще самолет, небольшой, начиненный взрывчаткой, и направляет на переправы. Однажды ночью передают срочно приказ: 3-му танковому батальону, где был мой друг, передвинуться к крепости Кюстрин. Почему? Командование засекло, что немецкий гарнизон наметил прорвать нашу оборону. Наши перехватили их сообщения и усилили позиции. Чуть расцвело — немцы пошли. Пехотные части стояли — смяли. Но была подготовлена и артиллерия, и «катюши». Как открыли огонь! Половину уничтожили, остальных пленили. Был в этой крепости — действительно, укреплена очень сильно. Если штурмом брать, так много бы уложили… После Кюстрина мы по-прежнему держали свои рубежи.
В апреле наступление. Все на танках и вперед на большой скорости. В Марцане, сейчас в черте города Берлина, погиб Какулия. Танковая колонна вырвалась, а там в километре — немецкая зенитная пушка, успела дать залп, может, 20 снарядов сразу выпустила, и как раз по нашему танку, и осколок попал в голову Жоре моему. Там и похоронили. Я был у него на родине, в Тбилиси.
Шли до самого Берлина, вышли на Франкфурт-аллею. Важнейшая магистраль, связывает Берлин с Франкфуртом-на-Майне. В Берлине совсем другая тактика. Наша задача — не допускать нападения на танки, особенно со стороны «фаустников». Мы должны зорко смотреть. А танки прятались. Прятаться — тоже опасное дело: спрячешься, а стена рухнет. Каждый танк охраняли 10–12 автоматчиков — он стрелял и наступал, а мы вслед за ним. Снайперов много было. Мы почти достигли центра, за углом Александрплац, там еще немцы. Тюрьма на углу, а мы в ее подвале. Потом вдруг передают — «немцы согласились на перемирие». Мы повылезали из щелей, начали из всех видов оружия стрелять. Так закончили войну.
Впервые команда — моторизованному батальону выделить кандидата на Героя Советского Союза без личного подвига. А танкисты не верят — у них только личный подвиг. И выдвинули одного очень активного и дисциплинированного солдата — Ляпова, и ему присвоили звание Героя Советского Союза. В 1966 году умер. Я очень защищал его кандидатуру.
— При штурме Берлина были инциденты с местным населением?
— Нет. Они очень дисциплинированные. Перемирие началось — во всех домах белые простыни висят. Войне капут. Все капут. Когда мы после войны стояли в деревне Нора, года два — никаких инцидентов. Можешь в деревню один идти — ничего с тобой не будет.
— Говорят (особенно в Берлине), были массовые изнасилования?
— Я об этом не могу говорить, я не видел этого. Жуков и Вильгельм Пик применили очень жесткие меры, чтобы не распространялись венерические болезни.
Пришли немцы на Украину и здорово посеяли, наши схватили этот посев и пошли отдавать дальше. Тяжелобольных отправляли куда-то под Лейпциг — там устроили «дикую дивизию» — муштра 12 часов и остальное время лечение. А легко заболевшим в части давали уколы молочные, от них на стенку лезли. Однажды начальник технической части попросил с ним съездить в роли переводчика, поскольку я немного знал немецкий язык, на грузовой машине в Лейпциг. Там много перемещенных лиц, которые уже собирались домой. А с ними связываться было очень опасно. Но шоферы такая братва — их держи и держи в руках. И хотя я предупредил, но… Через какое-то время я прохожу мимо санчасти, там шофер этот, Бородин, сидит на завалинке. «Ох, не послушался я вас, теперь лезу на стенку от уколов».
В Берлине нас долго не держали, на третий день вывели сначала под Дрезден, потом в Тюрингию, американцы ее освободили, отдали. В 5 км от Веймара немецкий танковый городок, рядом деревня Нора. Когда шли по франкфуртской автостраде, вдруг остановились — американцы не успели уйти, а мы двое суток на дороге. Как танки остановились — десантники соскакивают и в разведку — где, что можно достать. Если долго стоим, на 3–5 км уходили. Вообще, в Германии мы не голодали. Был зам. по хозчасти, майор, прибегают и ему докладывают: у одного бауэра 60 свиней, продает. По старым маркам. «Не может быть». — «Точно». Он зовет своего хозяйственника Гришу Ульянова. «Я тебе передавал два мешка немецких марок?» — «Один — выбросили. Другой есть». Несколько грузовых машин туда пошли, через 2–3 часа возвращаются, полные свиней, 180 марок за 60 свиней. Все законно. Документы оформили. Три марки за свинью. Майору — новая задача, развести стадо. В деревне нашли большое хозяйство и сделали ферму. Заведующим назначили азербайджанца-мусульманина Оскара Абыгазалова.
После войны меня вызвали в штаб и дали 40 дней отпуска. Я опешил даже. Началась демобилизация стариков, и я со «стариками» поехал домой. По Польше едем. Остановился эшелон. В четыре часа утра как что-то трахнет по хвостовому вагону: кто-то умышленно пустил по этому пути маневровый паровоз, ударил. А солдаты — не спят. Двое были на площадке. Один успел соскочить, другой — нет. Погиб. Всю войну прошел, атак погиб.
Еще хочу сказать о фронтовых снах. После войны я не мог выступать, потому что слезы текли. И кошмарные сны снились.
★
Гехтман Эля Гершевич
Родился в августе 1923 года в городе Житомире. Отец был инвалидом с рождения, работать не мог и никакой пенсии не получал. Все мои воспоминания о детских годах связаны со сплошным голодом. Жили мы в неотапливаемом погребе, одна полячка сжалилась над нами и пустила жить в погреб своего одноэтажного дома, не прося за это денег. Окна погреба были на уровне земли. Голод жуткий, холод, крысы шныряют под ногами… Вот так и жили, нас шесть человек и старая бабушка…
Все время бедствовали, и как наша семья пережила голод 1933 года, который смерчем прошел по Украине, — я до сих пор не пойму. Я тогда полностью опух от недоедания, и даже выползти из своего подвала не было сил. Мне было лет восемь, когда пришла какая-то комиссия из райисполкома и нашей семье выделили жилье — комнату в подвале, чуть просторней нашего погреба. В школу я почти не ходил, проучился два года в начальной еврейской школе, потом ее закрыли, а в украинскую школу я не пошел, поскольку не знал украинского языка. Так что если я в жизни осилил какую-то грамоту, то все самоучкой.