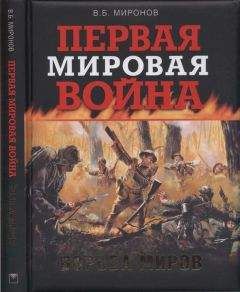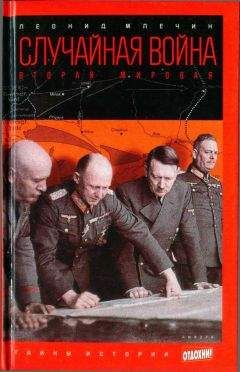Михаил Евстафьев - В двух шагах от рая
Порой он даже завидовал тем товарищам, которые лишены были способности рассуждать, и были от этого спокойны,
…лица их никогда не были обезображены мыслью… и
засыпают они быстро…
…как говорил капитан Моргульцев: «Не должен офицер
рассуждать, зачем и почему получает он тот или иной приказ
от Родины, тем более какой-то там Ванька-взводный!»… мы
получаем деньги не за должности и звания, а за преданность
Родине, которая в какой-то момент вправе потребовать от
офицера, присягнувшего ей, жизнь…
По дороге на операцию Шарагин ни раз возвращался мысленно к первым месяцам службы в Афгане, и первым резким впечатлениям от войны, и людям, увязшим в ней. Часть тех людей и сегодня служили в роте, тряслась рядом на бээмпэшках, часть давно убыла по домам, а некоторые, не дожившие до замены, навечно поселились в горах, песках и «зеленках» Афганистана.
…где-нибудь в пыльных бурях, унесенные «афганцем»,
летают души людей, что были рядом и погибли… все
мужики наши где-то рядом… одной ногой здесь, одной ногой
дома…
Так обычно говорил себе старший лейтенант, замечая очередной памятник – из камней, из гильз, из покрышек – с фамилией, именем и годами жизни – узеньким отрывком времени в девятнадцать, двадцать лет.
Головные машины остановились, и вышло что-то вроде короткого отдыха; надо было дать возможность подтянуться отставшим, а людям пора было пожевать что-нибудь наскоро, справить нужду, размять ноги.
Водители, воспользовавшись нечаянным отдыхом, паузой в движении, не сговариваясь, поочередно лазали под капоты, заглядывали в движки бронемашин; спешилось ненадолго войско, но не всё, лишь передовые ряды, остальные же давно выбились из общего темпа марша, как хвост огромной ящерицы, задержались, поломались, застряли, оторвались от туловища, и жили как бы независимо, нагоняя упущенные километры где-то далеко позади.
Взвод Шарагина, следуя в общей «ниточке» роты, встал метрах в двухстах от афганской заставы, приземистой глинобитной крепости, выдававшейся в сторону от дороги, обрамленной редкими деревьями, с гордо торчащим вверх флагом.
У бронетехники уже сновала детвора из ближайшего кишлака.
– Никому от машин не отходить! – предупредил Шарагин. – Я к капитану Зебреву.
– А если по-большому?! Товарищ старший лейтенант! – с наигранной мольбой в хитрющих глазах застонал, хватаясь за живот, Мышковский.
– Ничего, Мышковский, посрёте в руки товарищу!
…никогда бы не подумал, что из этого заморыша получится
десантник…
– Эй, командор! Как дела? – бежал навстречу Шарагину запыхавшийся босоногий афганский паренек.
Он тащил в рваном бумажном пакете мандарины, жвачку и открытки с актерами индийского кино.
– Буру, бача! Буру! – шикнул на вьющегося под ногами продавца Шарагин.
– Эй, друг! Как дела? – обратился паренек к солдату на носу БМП, что хохмил насчет приступа живота, и готовился спрыгнуть на дорогу, поразмяться. – Товар аст? Что продаешь?
Младший сержант Мышковский потянулся, вздохнул печально, щурясь от солнца:
– Ничего нет, бача. Не заработали пока.
– Пока! – многозначительно поднял вверх указательный палец Сычев.
Маленький афганец, почувствовав некоторую заинтересованность, не отступал, предлагал мандарины, развернул веером открытки.
– А ну-ка дай гляну, – попросил Сычев. – Шурави контрол, бача!
Паренек протянул открытки.
– На! Бери обратно. Вот если б они без купальников были…
Афганец не уходил.
– Бабок нет, понимаешь? Пайсы нет. Нист пайса, бача! Хочешь обмен? – Мышковский протянул пачку «Донских», самых дрянных сигарет без фильтра, которые выдавали солдатам. – А ты мне несколько мандаринов. – Понял бача, согласился. – Только имей ввиду, бача, не сдохни от сигарет! Год за три называются!
Солдаты рассмеялись.
Мышковский спустился на дорогу, принялся сдирать кожуру с мандаринов, и съел бы спокойно, и дальше бы поехал, освежив рот дольками, только подкатил на его беду подобный колобку подполковник. Щеки – как у хомяка, брови – один в один Леонид Ильич Брежнев.
Подполковник крайне нелепо выглядел в каске, потому что никто никогда в пути каску не одевал, а уж тем более во время привала. На груди офицера болтался автомат со спаренными рожками, подсумок выпирал на боку, как печень с похмелья, из нагрудного кармана бронежилета выглядывали запалы от гранат – вид такой, будто собрался один от целой банды душманов отстреливаться.
С налета вцепился подполковник в Мышковского, стал наседать на бойца, визжать, словно пес с цепи сорвался.
Возмутило офицера то, что солдат, видите ли, устроил обмен с афганцами, сигареты на мандарины махнул.
– А что в этом такого? – спокойно прореагировал на упреки Мышковский.
Сам-то он не новичок в Афгане, не смутился. А вот подполковник, судя по грозной экипировке, – недавно прибыл на войну, к тому же, небось, необстрелянный политрук, решил Мышковский, хоть и тельняшку нацепил.
– Мои сигареты, мы обменялись…
– Да какое ты имеешь право?! – надрывался офицер. – Как фамилия? Где командир? Какой полк?..
Не дослушав до конца ответы, подполковник завелся пуще, узрев, что боец и одет-то не по форме: вместо ботинок разгуливает в «Кимрах», в обычных кроссовках!
Так и есть – политработник, решил Мышковский, крыса штабная!
Неведома было этому упитанному офицеру, отправившемуся на боевые, как на прогулку, в надежде заработать лишнюю галочку, которую позднее учтут при представлении к ордену, простая солдатская хитрость: в горах, в тяжелых одеревенелых уставных ботинках далеко не уйдешь, немногим лучше они, чем родимые «говнодавы». Да и какая, к черту, разница, в чем ты там воюешь, и в чем укокошат тебя!
Стояли они друг напротив друга. Подполковник видел перед собой наглое, поганое солдатское существо, которое жрет на марше мандарины, которое дорвалось до воли, которое распустил командир, и которое надо непременно вздрючить, потому что стоит он на дороге без автомата, без броника, в одних кроссовках.
А солдат думал, что все офицеры, в сущности, скоты, животные, кровопийцы, и этот подполковник – животное, ему все, в конечном счете, по фигу, кроме собственной шкуры и карьеры…
Находившиеся рядом, и подошедшие ближе на крики подполковника военнослужащие – и солдатня и офицеры младшие, – как заведено в армии, не вмешивались.
Привычные к не всегда разумным проявлениям эмоций, барства и хамства со стороны старших офицеров, они молча взирали на этот неожиданный бред; никто из них не имел права перечить старшему офицеру. Все понимали, что подполковник – идиот, что он таким родился и останется, что горбатого могила исправит, и видели, потому что это всегда бросается в глаза, что не было в подполковнике свирепости командирской, была лишь временная прихоть, далекая от принципиальности и дисциплины армейской дурь, дурь человека, который может быть вообще никогда не командовал, и поэтому долгое время не на кого ему было срываться.
В армии ведь как: накричишь – сразу душу облегчишь. А тот, на кого ты накричал – накричит или обидит в свою очередь нижестоящего, нельзя же, в конце концов, в себе ежедневно накапливать всю обиду, нервы-то не железные.
Вот и получается, что ежедневно все Вооруженные силы великого Союза сотрясаются криками, сверху тянется цепочка обид до самого низа, до рядовых, а там тоже свои разборки…
Незаслуженные, обидные слова вылетали из подполковника сильной струей, как понос при амебиазе. Болезнь ту Мышковский хорошо запомнил: набегался в сортир, натерпелся.
Пухлый офицер хрипел уже, вспотел весь, капли пота сыпались из-под козырька кепки, поверх которой надет был шлем, но продолжал долбить бойца словом, как отбойным молотком; вором назвал, мародером, грабителем, кричал, что такие ублюдки позорят образ советского воина-интернационалиста.
Точно политрук, решил Мышковский.
А подполковника несло и несло:
– …здесь, в Афганистане люди служат с чистой совестью! Умирают за революцию!.. – будто лекцию читал колхозникам тупым, и все норовил подполковник прижать Мышковского грудью к броне, хотя боец и рослый был.
Напирал офицер на него, глядя чуть вверх, наступал пыльными ботинками на кроссовки.
Шарагин с Зебревым пили чай из термоса, консервную банку открыли, подтрунивали над Пашковым. Старшина закончил перекур, спрятал руки в карманы брюк.
– Чего руки в карманах держишь, – подколол старшего прапорщика Зебрев, – бильярдные шары катаешь?
– Старшина, ты что собрался в Афгане на пенсию выходить?
– Да ладно… – Пашков оттянул тельняшку, протер солнцезащитные очки, дыхнул на стекла, снова протер.