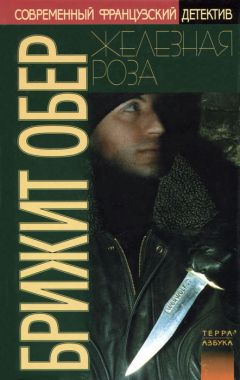Валерий Поволяев - Список войны (сборник)
В гражданской жизни Михаил Горшков не пропал — стал священником. Познакомились мы с ним на службе в церкви Московского святителя Филиппа-митрополита. Эта церковь — домовая, располагается на территории знаменитого Дома Ростовых, описанного Львом Николаевичем Толстым; раньше здесь находилось имение легендарной боярской фамилии Колычевых, святитель Филипп, вероломно убитый при Иване Грозном, происходил именно из этой фамилии.
Отец Михаил Горшков вместе с отцом Алексием Курахтиным вели здесь службы. Принадлежал храм Святителя Филиппа Русской православной кафолической церкви, по-гречески «кафолическая» означает «православная», получается, что храмы этой церкви — дважды православные. Кстати, церковь Русская до революции также называлась кафолической, но потом, в двадцатые годы, при патриархе Тихоне, разделилась надвое и та часть, что осталась с Тихоном, начала называться «катакомбной». Она действительно ушла в «катакомбы» — при Сталине быть священником этой церкви считалось очень опасным, немедленно следовал арест и, после решения пресловутой «тройки», — пуля в затылок.
У православного народа эта церковь пользуется большим уважением. Батюшка Михаил и рассказал мне историю своего отца, показал кое-какие документы. Среди его рассказов о разведчиках артиллерийского полка был печальным, очень необычным — про танковую ловушку. Всё, что произошло с разведчиками, было на самом деле.
Мустафа, как и Иван Иванович Горшков, так же остался жив. К прежнему воровскому занятию он, естественно, уже не вернулся, женился, обзавёлся детьми, до 1949 года старший Горшков общался с ним то по телефону, то обменивался письмами, а потом его направили служить в Германию и связь эта оборвалась.
Сколько потом Горшков, вернувшись в Россию, ни пытался отыскать Мустафу, попытки эти ни к чему не привели. Видимо, тот переехал жить на новое место, и как часто бывает в таких случаях, след его потерялся.
Вот, собственно, и всё.
Шурик
Светлой памяти Александра Андреевича Томилова
Весть о том, что началась война, пришла в Никитовку лишь на четвёртые сутки. Погода стояла жаркая, сухая, — ну хоть бы капля воды упала с неба! Мужики боялись — хлеб может сгореть, остекленеет рожь с пшеничкой, — тогда пиши пропало, погибнет урожай. И земля здешняя, горькая — камень да соль — хлеб поддержать не сумеет: сухая она, земля эта, ядовитая. Если б был чернозём, так пшеница, до жизни жадная, сумела бы и без дождей сок из почвы вытянуть, силы в себе поддержать, но, увы — степные солончаки со всех сторон окружают деревню Никитовку.
Даже вода, и та здесь ядовитая, солёная, ни скот, ни люди её не пьют, воду в Никитовку привозят бог знает откуда, с сизоверхого Алтая. Хорошо, что недалеко от деревни, — а по сибирским масштабам это совсем рядом, — всего в десяти километрах, пролегает ветка-узкоколейка, вот по ней и доставляют на станцию (официально станцию именуют разъездом) цистерны с водой.
Распоряжался цистернами на станции расторопный щекастый парень с быстрыми шальными глазами, любитель баб за мягкое место ухватить, да двусмысленную прибаутку голосом погромче прочитать. Фамилия этого парня — Федякин. Лик у Федякина был круглым. Щёки прямо лопались — от кровяной натуги, казалось, их глянцевая кожица вот-вот треснет, будто бок помидора, и брызнет из разлома кровь с молоком. На правый глаз небрежно спадал густой, цвета свежей бронзы чуб. В Никитовке поговаривали, что Федякин не одну деваху уже огулял, заставил слёзы пролить, и мужики не единожды собирались наказать щекастого, но каждый раз возвращались домой ни с чем, ругаясь и почесывая кулаки — Федякин, прослышав про справедливый поход мужиков, словно сквозь землю проваливался. От невыхлестнутого бойцовского ража, не зная, куда деть воинственный запал, никитовские мстители нередко, возвращаясь из таких походов, затевали драку между собой, быстро давали выход злой крови, делались смирными, словно куры, и тогда Федякин снова показывался на людях, приезжал в Никитовку и гоголем ходил вдоль палисадников, посверкивая тяжёлым металлическим чубом, и вчерашние мстители уважительно приподнимали кепки, завидя его: «Здрассте!»
Федякин на приветствия не отвечал, у него в Никитовке была своя цель — он гордо следовал по улице на деревенскую околицу, в избу, где жила Татьяна Глазачева, признанная деревенская красавица, давняя и, похоже, прочная — несмотря на его ухлёстывания и за другими девками — федякинская зазноба. Муж Татьяны Глазачевой служил в армии, на западной границе, через полгода должен был вернуться домой, и пора бы Таньке прекратить свои шуры-муры-амуры, а она, наоборот, приваживала к себе Федякина всё больше и больше. Деревенская пацанва любопытствовала с безопасного расстояния, поддевая Федякина:
— Эй, рыжий, больной грыжей! Не знаешь, скоро Серёга Глазачев из армии вернётся?
На что Федякин, конечно, не отвечал — так же, как и на приветствия оробевших от собственного буйства мужиков. Он даже голову не поворачивал, знал, что если надавать пацанам подзатыльников, шуму может быть куда больше, чем от взрослых: эти салажата разорутся на всю деревню и, чего доброго, ещё опозорят его. А это никак в федякинские расчёты не входило.
— Эй рыжий, а Серега Глазачев ведь обязательно вернётся, — напирали мальчишки, — и дырку в боку тебе сделает!
Насчёт дырки в боку у Федякина имелось своё мнение, тут пацанята перебирали, — Федякин быстро нагибался, хватал из-под ног камень и швырял в наглых салажат, но те были шустрыми и верткими, как воробьи. Попасть в них было невозможно.
А бабы прижимали Татьяну:
— Чего ж ты, сука такая, Серёге своему рога всё ставишь и ставишь? Они ж ветвистые у него, как у оленя, сделались. Пора бы и стоп себе скомандовать.
Татьяна Глазачева потягивалась всем своим долгим ладным телом, приподнимаясь на цыпочки, щурила синие, как предночное небо глаза, смотрела куда-то в сторону:
— Ох, бабоньки, на роду ведь мне такое написано — мужиков любить. Сотню раз пробовала отказать себе в удовольствии — сразу не то, сразу больна… А за здоровьем, бабоньки, надо следить. Приедет Серёженька — его ублажать буду, а пока пусть другие благами пользуются.
— Тьфу! — плевались бабы. — Что ты в нём, в брыжастом, нашла? У него же щёки со спины видны! Тоже нашла красоту.
— Красота не красота, а силы мужской в нём много, — не соглашалась с бабами Татьяна Глазачева.
— Оно так. Но вот ведь гад — ни одной юбки мимо себя не пропускает. Говорят, Фенька Краснова, что на разъезде работает, опять от него забрюхатела.
— Дура, потому и забрюхатела, — лениво тянула слова сквозь полные яркие губы Татьяна, потом поворачивалась к бабам лицом и насмешливо щурила свои редкостные, неизвестно откуда, по какому блату, доставшиеся ей глаза. — Бабоньки, а ведь среди вас тоже есть виноватые! Ведь тоже не сумели товарищу Федякину отказать, легли под него… А? — По тому, как кое-кто из баб быстро опускал глаза, Татьяна определяла, которая не устояла перед соблазном, и тут уже смеялась звонко, беззаботно: — То-то бабоньки!
В этот раз что-то долго на разъезд не привозили цистерну. Дойдя без воды до крайности, никитовские мужики завелись, вооружились кольями, посигали на коней и помчались на разъезд, чтоб в очередной раз попытаться проучить Федякина — за небрежность в службе и котовство.
А Федякина на разъезде и в помине нет. Вместо него орудует какая-то незнакомая полная женщина с мрачным взглядом в линялом ситцевом платье:
— Ну чего всполошились? Федякина уж второй день как на фронт взяли.
— Какой фронт? — ничего не понимая, воззрилась на женщину никитовская конница.
— Да вы что, с луны свалились? Скоро неделя как война идёт, а вы до сих пор ни черта не знаете. Тоже мне, защитники Родины!
На следующий день и в Никитовке появился запыленный потный посыльный из военкомата, чуть живой от усталости. Он слез с велосипеда, окликнул сидящего у правления Шурика Ермакова:
— Эй, пацан, а куда все ваши взрослые подевались?
— Кто куда… Часть — на покосе, часть на разъезд за водой уехала. Скажите, а правда, что Гитлер на нас напал? И война уже пять дней идёт. Правда?
— Правда, — устало подтвердил посыльный, сел на ступеньку рядом с Шуриком, провёл ладонью по пыльному и потному лицу, оставив на лбу и щеках грязные полосы. — Не найдётся у тебя, парень, воды? Пить ужасно охота.
Шурик молча поднялся, сходил в правление, принёс кружку с водой.
— Спасибо, друг, — кивнул посыльный, выпил кружку залпом. Притиснул ладонь к губам, вытирая их. — А теперь нам с тобой нужно решить задачу государственной важности. Надобно собрать всех никитовских мужиков. Я, вишь, вон, — он похлопал рукою по брезентовой полевой сумке, — повестки привёз. — Помолчал. Добавил тихо, задумчиво, будто бы прислушиваясь к самому себе: — На фронт пора мужикам. Всеобщая мобилизация. Тебе-то сколько лет?