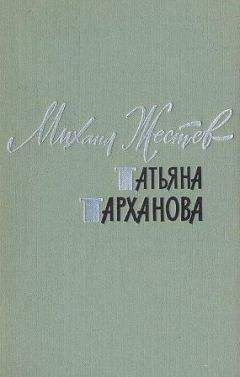Михаил Стельмах - Большая родня
Югина удивленно широким взглядом смотрела на отца.
— Чего удивляешься? Не надеялась такое услышать? Это не я, Югина, а правда наша говорит. Гляди, чтобы правдивой мне была во всем, такой, как комсомол тебя учит. Ибо разве то человек, если все в нем серое: и душа, и мысли, и взгляд. Если перепелка серая — это красиво, а если человек такой, то… Ну, иди уже отдыхать…
— Отец, значит, вы теперь со Свиридом Яковлевичем во всем заодно?
— Мы всегда с ним заодно, — перебил, хотя и знал, о чем спросила Югина. И, уже помолчав, прибавил: — Угадала ты. Думаю, дочка, в партию вступать, — впервые высказал самые сокровенные мечты. — Вот поставим соз на ноги… так, чтобы открыто можно было людям в глаза смотреть… и поеду со Свиридом Яковлевичем в райпартком…
— Куда же мы тогда нашу маму денем? — весело сузила глаза.
Иван Тимофеевич засмеялся:
— Это не маленькая загадка. Непременно с женделегатами посоветуйтесь… ее надо к какому-то ледащему начальству приставить: она его или работать заставит, или навеки выживет, сточит своим язычком…
К оконным стеклам припала темно-синяя ночь, шевеля перетертыми льдинами облачков.
Ровно задышал Иван, и Марийка со страхом увидела, что его руки скрещены на груди. Торопливо разъединила их и долго не могла остановить в груди болезненный стук.
Луна неслышным броском посеяла в дом бледное сияние, и на полу зашатались черные переплеты рам. С тревогой смотрела на такое родное, даже во сне насмешливое лицо мужа, который и в пору их встреч своими шпильками, настырностью не раз доводил ее до слез, да и теперь не изменился. Даже его неизменное «хе» не уходило с годом, а еще больше укоренялось, становясь и радостным, и раздумчивым, и грустным, и злым окликом.
В сенях загремел засов, забряцали ведра — Югина принесла воды, затворяла дверь. И знала мать, что сейчас дочь будет пеплом мыть косы, расчешет кудри и, не заплетая их, перевяжет на ночь лентою.
«Неспроста приходил Григорий в воскресенье, ой, неспроста».
Было радостно. Не лучший ли из парней засмотрелся на Югину! И тревожно, так как красоту на тарелку не положишь, а он же бедный, бедный, аж синий, даже хаты не имеет. Выйдешь замуж за такого — не налюбуешься, а нагорюешься на заработках. Хотелось, чтобы зять более богатым был, чтобы дочь ее не наймичкой или поденщицей стала, а сразу хозяйкой. Красивая молодая женщина из моей Югины будет…
— Красивая, красивая, — загремел бас на дворе.
— Славная, славная, — отозвалась скрипка…
— Что это?
Мелькнули черные очертания зданий, окутанные синим холстом. Прозрачное облачко надрезал острый серебряный лемех, передвинулись наискось переплеты рам, на насесте заорал, забил крыльями петух.
«Неужели скоро рассвет?»
И снова загремел бас, но уже на улице возле невестиных гостей: «Красивая, красивая». А она притворялась, что пьяная, и должен был-таки зять брать ее под руки и вести шумящими улицами к своему дому.
— Горе мое, а кто же мой зять? — Вот тебе и на! Даже рассмотреть не успела, а он хитрец! Только посмотрит она — отворачивается в сторону и смеется, смеется над ней…
И Югина долго не могла заснуть в эту ночь. Теплые, мокрые косы рассыпались по плечам, ластились сырым прикосновеньем, как рой неожиданных мыслей.
Теперь воскресенье она встречала радостным предчувствием. В воображении видела, как, приготовив завтрак и обед, прибирается возле сундука, заглядывает в маленькое зеркало и окно — не идут ли подруги за нею. Даже слышала, как играла музыка на площадке около сельстроя и шуршали улицами девичьи юбки. Закрутит ее Григорий в быстром танце на зависть старшим девчатам.
«Разве же она виновата, что танцует лучше них?» — Улыбнулась и застыдилась, что лукавит сама с собой.
Не только потому Шевчик платит музыкантам, что легко танцует она.
Ой так-так, ой так-так!
Шевчик дратву сучит.
Припомнила детскую песенку и беззвучно рассмеялась, видя, как Григорий в фартуке из десятки сидит на сапожном долбленом стуле и смолистыми руками, опоясанными следами дратвы, люто вкручивает в нитку твердую щетину, а щетина гнилая — рвется, и он разве что кулаки от злости не сучит. А музыка играет, и Григорий уже с колодками в руке, дратвой в зубах сам пускается в пляс, сердито напевая: «Ой так-так, ой так-так, Шевчик дратву сучит».
«И зачем он в воскресенье приходил? Зачем? Захотелось рюмку выпить, вот и зашли».
И знает, что обманывает себя, но назойливую догадку хочет забросать другим, запрятать глубоко-глубоко, чтобы радостнее и дольше было ей пробиваться наверх. Вот она поднимается, встряхивает с себя набросанные мысли, как трава росу, и подает свой голос:
«А я знаю, зачем он приходил».
«Ничего ты не знаешь, — сердится девушка, — разве мало лучших девчат в селе есть», — и начинает перебирать их в памяти.
«Вот подруга — Софья Кушнир — чем не красавица? Только мелковата немного и слишком уж смуглая. Или Люда Ветренко. Чернявая, синеглазая, статная. Однако слишком горделивая, да и ходит, будто за каждый шаг золотой берет. Или Екатерина Прокопчук…» — И неудобно становится перед собой, что начала судить, пусть хоть в мыслях, своих подруг. «Вроде я лучше всех. Как это нехорошо», — аж покраснела.
Все же было приятно вспоминать подслушанный шепот молодиц: «Красивая дочка у Марийки Бондарихи».
Ночь мягкая и ласковая, как в детстве прикосновенье материнской руки. Она припоминает вчерашнюю ночь на дороге и высокую мужественную фигуру Дмитрия. Как он посмотрел тогда на нее. И горячая волна заливает девушку, когда снова ощущает на теле прикосновенье его крепких шершавых рук. И совсем он не такой гордый, как люди говорят.
Вспоминает рассказ, как Варчуки побили Дмитрия. Тетка Евдокия как-то на посиделках у Шуляков оговорилась: «Думала, что навек приморозил парень ноги. Но нет. Как раз ранней весной начал ходить. А однажды пришел вечером, разулся, походил по дому и как метнется к печи лампу светить. По тому, как забегал, почувствовала что-то неладное. Вскочила с кровати. Стоит мой парень посреди хаты бледный-бледный и губы кусает.
— Что с тобой, Дмитрий?
— И сам не пойму. Снял сапоги, онучи, но вот чувствую, будто онучи снова к ногам поприставали. Не бред ли? — Посветила я снизу, а у него кожа до самых лодыжек отстала. По земле волочится, как бумага. — Последний гостинец с тела сходит, только с сердца едва ли так скоро сойдет, — и начал отрывать куски белого постарелого полотна, а из-под него проглянуло молодое розовое тело, как у грудного ребенка…»
И девушке кажется, что над ней нависают тени от рослой фигуры Дмитрия… А глаза у него черные-черные — в душу заглядывают так пытливо и строго, будто хотят выверить: кто ты такая? Григорий более смирный, все у него проще, а танцуешь с ним — земли под собой не чувствуешь…
«Ой так-так, ой так-так, Шевчик дратву сучит…» «Задержалась же ты, девушка…» И страшно было даже встретиться с ним, и как назвать не знала — Дмитрием или Дмитрием Тимофеевичем. Хорошие они парни — и Дмитрий, и Григорий, и Варивон. Варивон только на язык очень острый… Уже сквозь сон слышала, что Григорий что-то спрашивается у нее, а она краснела и ничего ответить не могла.
XXІV
Девчата поднялись на гору.
Перед ними сразу же расширилась земля, разводя тесный круг небосвода; там, где она аж за горизонт вдавливалась крыльями дубрав, предвечерье высекало золотые вспышки. Они расцветали удивительными цветниками, притрушивали леса, и те отзывались мелодичным малиновым звоном. Невидимые трудолюбивые кузнецы спешили из солнечных слитков выковать россыпь звезд, закалить буханку луны и прогнуть ту дорогу, которая безошибочно из зенита прольется на юг.
— Девчата, девчата, посмотрите, как здорово вокруг! — остановилась Югина, будто впервые увидела во всем блеске большую землю. Девушке даже показалось, что все приволье: и изгибы долин, и просвеченные леса, и гора, на которой они стояли, покачиваясь, плывут в даль. И это было понятным открытием: после сегодняшнего дня мир увеличивался, становился лучше.
— Так и в наших дубравах здорово, только над ними ниже опускается небо, — тихо промолвила невысокая задумчивая Василина, дочь лесника. Она, как и Югина, восторженно смотрела на щедроты предвечерья, преисполненная волнения, чувства новой ответственности и силы правды, которая раскрывалась в новых словах ее новыми товарищами.
— Девчата, вы чем любуетесь? Кого перед глазами видите? — подбежала непоседа Софья Кушнир. Тонкими смуглявыми руками она охватила плечи подруг и, подобрав ноги, начала раскачиваться вперед и назад. — О, какие вы вредные: женишков увидели и молчат!
Острым взглядом она первая увидела, что в долине, по полевой дороге, шло несколько парней с лопатами и топорами. Позади них, из-за пригорка, поднялся трактор, и на его тарахтение тихим дрожанием отзывалась гора.