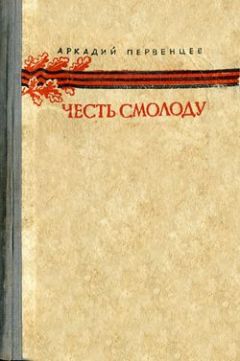Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга первая
Сенька, понимая состояние отца, пытался его успокоить. Егор оценил эту невинную уловку, ему хотелось как-то задушевней приголубить сына, но гордая казачья суровость сдерживала.
— Чего же ты Луку в свой черед не потянул кнутом, а?
— У него не вырвешь, цепкий дед! Зато я у Луки раз по осени курицу-несушку упер, — похвалился Сенька, вздрагивая от внутреннего смеха, — вот убей меня цыган молотком, не брешу.
— Как же ты? Ну, ну, расскажи.
Сенька подробно поведал случай с похищением курицы. Егор коротко посмеялся.
— А хату доглядал?
— Нельзя сказать, чтобы здорово, — вздохнул Сенька, — забегали раз с Мишкой Карагодиным, на завалинке посидели, да домой: страшно. В стрехе что-сь свистит. Дедушка Харистов рассказал нам, что когда-сь давно возле нашей хаты казаки черкесов побили, а он отца своего с бердана невзначай подвалил, — так и вовсе страхота. Еще мертвяки приснятся, ну их… Забор наш вчистую соседи растянули. Сарайчик и тот наполовину раскрыли.
Дальше двигались молча, каждый был занят своими мыслями. Мимо — просвечивающие сквозь щели ставень оконца хат.
Иногда доносились глухие звуки песни, переливы гармоники, пьяный шум — праздновали приход казаков с фронта. В большинстве домов было тихо, а во дворах безлюдно. Знал Мостовой — немало станичников сложило головы в далеких и скупых землях. Не всем был праздником приход жилейских полков, не каждой семье радость.
Вот и окраина. Здесь, ближе к обрыву, жили либо извечная казачья голытьба, либо недавно отделенные семьи, не успевшие еще поставить службы и заборы. Вместо огорожи тянулись канавы, обсаженные тоненькими деревцами.
Зашумели камыши, с гирла потянуло гнилым холодом. На путников надвинулся знакомый размашистый тополь, слабо покачивающий голыми ветками. Белым пятном обозначилась хата.
Забор и впрямь исчез. Повырывали даже столбы, оставив линию ямок, сейчас до краев заполненных водой. Вправо чернели амбары и длинный, в три звена, сарай соседа Игната Литвиненко. Мостовой на минуту задержался, будто оценивая повреждения, сжал ремень винтовки и направился во двор, подгибая сапогами стеблистую податливую лебеду.
У тополя Мостовой остановился, накинул на сучок повод и медленно подошел к хате. Какой маленькой и убогой показалась она ему! Стены отсырели, завалинку размыло; вся хатенка осунулась и скосилась. Ставни и двери были заколочены, возле трубы шевелилась сурепка, выросшая на крыше.
В этом неказистом жилище родился Егор Мостовой. Во дворе, полого уходящем в густой очерет, прошла его юность. Тут же отпевали родителей, и отсюда, незадолго перед войной, отнесли на погост его тихую, некрасивую жену. Егор провел шершавой кистью по лбу, отгоняя ненужные сейчас воспоминания, выругался сквозь зубы и начал зло отбивать прикладом Доски, накрест прибитые к двери. Отрухлявевшие за три года доски легко кололись, и он снял их по щепкам. Толкнул ногой дверь. Она открылась без скрипа, как будто провалилась внутрь.
В сенях Егор чиркнул спичкой, огляделся. Отовсюду несло затхлостью. Дощатые стенки зацвели и покрылись сырым грибком. Не гася спички, переступил порог хаты и, тяжело шагая, прошел к печи. Опустился на лавку, скрипнувшую под ним, и широко расставил ноги. Печь неприветливо зияла черным овалом, и на шестке, будто пемза, застыла комкастая кизячная зола. На столе, лавке и иконе толстый слой пепельной пыли. Сенька осторожно, боясь вздохнуть, подсел к отцу. Спичка догорела в корявых пальцах Мостового, затухла, красновато затлел уголек, почернел, скрутился. Егор притянул к себе сына.
— Ну, вот и война кончилась… отказаковались… Вот мы и опять вместе… дома…
Сеньке до слез стало жаль отца. Он шмыгнул носом и приник к щетинистой и какой-то плоской отцовой щеке…
— Ничего, папаня, — утешил он, — мы тут все мигом приберем, почистим. Мишку покличу Карагодина, Ивгу Шаховцову. Хочешь, я у деда Луки занавеску попру?
Егор медленно провел по голове мальчика широкой шероховатой ладонью и ощутил мокрые глаза и щеки.
— Семен, чего ты? Брось… А еще казак.
Мальчик рывком уткнулся в отцовы колени, пахнущие конским потом и кислым сукном. Плечи Сеньки подергивались.
— Зря, совсем зря, Сенька, — утешал его отец нарочито веселым голосом. — У нас еще будет жизня. Что же мы, так век и будем, как бурьян на межнике?
Сенька заглатывал слезы.
— Федька Велигура, атаманский, говорил… казаки с походу полные седловые подушки пятериков золотых привозют. А ты?.. Война насовсем кончилась, а пятериков нема.
Мостовой приник к уху Сеньки колючим ртом.
— Эх ты, Семен Егорович, какие там пятерики. Видал, бирюками казаки возвернулись?! У атамана коленки дрожали… Война только зачинается… Чего ж ты кручинишься, сынок?
Мостовой завел коня в сени, расседлал, растер ему спину и ноги попонкой и, вытряхнув из вьючной сетки мелкое сено, потрепал гриву.
— Ну, привыкай, Баварец, к кубанским харчам.
Взвалив тяжелый вьюк на плечо, внес в хату. В темноте полез в правую суму, нащупал мешочек с ружейной принадлежностью и, позвенев в нем, вынул огарок толстой восковой свечки.
— Все требуется хорошему казаку, — сказал Егор, засветив огонь, — а полковому командиру тем более. Карту ночью читать…
Откуда-то подуло, пламя заколебалось.
— Батя, а как же свечка на ветру? Не гаснет?
— Ишь догадливый, — удивился Егор, — верно сообразил. В походе свечка пожар. Это мы в дурака в теплушке играли, осталась.
Из той же сумки появилась саква с галетами, банка с тушеным мясом. Мостовой вскрыл консервы кинжалом. Отец и сын поужинали неприкосновенным запасом, звучно разгрызая окаменевшие галеты. Сеньке пришлись по вкусу и сухари, и консервированное мясо, приятно попахивающее лавровым листом.
— То-то вы по три года воюете, — заметил Сенька, уписывая за обе щеки: — Харч у вас — дай боже москалю под пасху…
— Москалю-то, может, и дай боже, а вот… — Егор наклонился, пощупал Сенькины ноги, — ты ж простынешь, ай-ай-ай… Скидай опорки, грейся. Что ж ты молчишь?
— Ничего, — солидно говорил Сенька, отставляя набитую липкой грязью обувь, — я привышный. Меня никакая хвороба не берет.
Он завернул в попону посиневшие ноги и сразу ощутил приятную теплоту и сухость. Егор, наполнив торбу зерном из саквы, вышел в сени. Оттуда послышалось храповитое ржание. Мостовой возвратился, отряхивая рукав.
— Жадный до зерна Баварец! Пока торбу навесил, всего обслюнявил. Умный конь: как пожрет зерно, сам торбу снимет, абы было за что зацепиться.
— А как же ты коня достал, батя? — спросил Сенька, прижимаясь к отцу плечом. — Ты же пеши ушел.
— Хозяина убили, конь жив остался, — нехотя проговорил отец, остилая вверху, на холодной печи, шинель.
— Кто ж убил, а? — «полюбопытствовал Сенька, подлезая под бурку. — Ты, батя, убил?
— Нет, ты! Скинь холодайку, накинься сверху, так завсегда теплее, на позиции проверено.
Сенька стянул кацавейку, и вскоре отец и сын заснули, крепко прижавшись друг к другу.
ГЛАВА III
Утром Мостовой уехал в Богатун, но немного погодя заявился Павло Батурин. Он привез груженую фуру.
— Отец дома? — спросил он Сеньку, слезая с воза.
— Нема бати, дядя Павло.
— А где ж его спозаранку унесло?
— В Богатун подался, крылыциков пошукать, хата-то совсем раскрытая.
Сенька соврал. Отец уехал, когда мальчишка еще сладко спал, и цель поездки ему не была известна, но так уж воспитал себя Сенька: обязательно все знать и ни перед каким вопросом не теряться.
— Принимай тогда сам заробленное, — сказал Павло, развязывая бечевку.
— Так бы и говорил сначала, дядька Павло. И зачем тебе батя! Не он же зароблял.
Павло внимательно присмотрелся к мальчишке и покачал головой.
— Востер, как у доброго чеботаря шило. Куда сваливать прикажете, Семен Егорович?
— Давай в хату, сараишко течет.
— В хату так в хату, — согласился Павло. Поплевав на ладони, огладил мешок, зацепил пальцами за гармошку завязки, поставил па попа и, играючи вскинув его себе на плечо, направился к хате. Сенька, обнаружив окорок, захватил его, добавил мешочек с фасолью и пошел вслед за Павлом. Вскоре все, что привез Павло, перекочевало в хату Мостовых.
Сенька сам развязал овцу-ярку, схватил вскочившую было овцу за шероховатые рога, другую руку запустил в густую курчавину шерсти. Ярка коротко заблеяла.
— Не мемекай, дурочка, — успокоил ее Сенька, — ты у нас для расплоду. Кабы валух, то, считай, враз под ножик. Ну, ну, не дрыгай ногами, все одно от меня не убежишь, я резвей тебя…
Павло снял мелкодонное мучное корытце. Стряхнул, похлопал по днищу.
— Отнеси в хату, — сказал он, — да гляди, дури не наберись коню полову в нем замесить. Понял? Любка подойдет, пироги поставит.