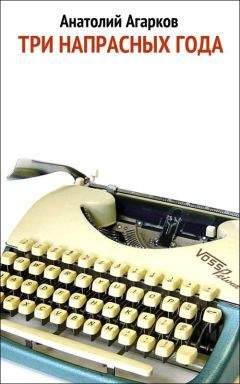Илья Маркин - Впереди — Днепр!
Лужко рассеянным взглядом окинул комнату, безвольно посидел немного и, вдруг вспомнив ее необычную улыбку, ринулся к двери. Ни в коридоре, ни на лестнице Веры уже не было. Хватаясь за стол, за стулья, за спинку кровати, он прыжками подскочил к окну и посмотрел на улицу. За углом дальнего дома мелькнула и скрылась беленькая шапочка Веры.
— Нет! Дальше так невозможно, — гневно воскликнул Лужко, торопливо оделся и, стуча костылями, вышел из квартиры.
Напряженно думая, он не замечал ни встречных людей, ни переполненных трамваев, ни холода метельного ветра.
— Мне нужно к военкому, — торопливо входя в приземистое с огромными окнами здание, сурово сказал он лейтенанту с красной повязкой.
— Сегодня неприемный день. Завтра приходите, — равнодушно ответил лейтенант.
— Мне нужно сейчас, немедленно, сию же минуту, — резко проговорил Лужко и так посмотрел на лейтенанта, что тот попятился и растерянно пробормотал:
— Подождите немного. Присядьте. Я доложу. Пожалуйста, пройдите, — быстро возвратясь, показал лейтенант на дверь.
— Слушаю вас, товарищ капитан, — встав из-за стола, встретил Лужко невысокий пожилой майор.
— Примите меня обратно в армию, — настойчиво глядя на майора, сказал Лужко.
— То есть как это в армию? Вы же…
— Инвалид, вы хотите сказать, — перебил военкома Лужко. — Это верно. Но у меня есть две руки и одна нога, есть голова, глаза, язык. Я могу работать, могу пользу приносить.
— Успокойтесь, присядьте, — мягко остановил Лужко майор.
— Я не могу успокоиться, — все же садясь на стул, продолжал Лужко. — Не могу без дела сидеть, тунеядцем жить. Куда угодно, кем угодно, — писарем, кладовщиком, каптенармусом, хоть сторожем у какого-нибудь склада, но только в армию, только на работу.
Военком наверняка не в первый раз видел таких посетителей, присел напротив Лужко, терпеливо выслушал его и, явно сожалеюще, сказал:
— Конечно, кадровому офицеру жить без армии все равно, что жить без воздуха.
— Именно без воздуха, — подхватил Лужко. — Я задыхаюсь, я разлагаться от безделья начинаю, сам себя ненавижу, скоро на людей бросаться буду.
— Я понимаю вас, — все так же сочувствующе сказал майор. — Готов помочь вам, но поймите, вы хорошо знаете армейские условия, не так-то просто найти вам работу. За два года войны много нашего брата покалечено. Но армейская служба… Да что вам рассказывать, — укоризненно махнул он рукой. — Одним словом — армия требует здоровых, сильных людей. Конечно, и вы можете принести пользу. Но пока найдется для вас подходящее место, много воды утечет. Это одно, а второе и более важное: в армии будете временным человеком, хоть вы и кадровый офицер. Рано или поздно вас все равно уволят. А вам всего двадцать пять лет. Впереди целая жизнь, и не будете же вы на одну пенсию жить. Нужно опять себе постоянную работу подыскивать.
С каждым словом военкома Лужко чувствовал, как исчезает и гнев, и раздражение, а вместе с ними уходит окончательно и надежда на возвращение в армию, которая так властно овладела им в последнее время. Он совсем равнодушно выслушал обещание майора сообщить, если в какой-либо из гражданских организаций найдется подходящее место. Вяло попрощался, заверив военкома, что успокоился и сам будет подыскивать себе работу, но в душе не верил ни тому, что успокоится, ни тому, что войдет в нормальную колею жизни.
* * *Не то от старости, не то от непомерных забот о разросшемся заводском гараже Селиваныч стал просто невыносим. С утра и до вечера он, сутулясь и шаркая ослабевшими ногами, метался между машинами, хрипло ругал, не стесняясь даже бранных слов, шоферов, ремонтников, диспетчершу. Обессилев от ругани, укрывался в своей конторке и через несколько минут вновь вылетал оттуда, еще более рьяный и непримиримый. Все, кто хоть неделю проработал в гараже, знали, что резкость старика беззлобна, что кипятится и ругается он, болея за дело, а в душе мягок, добр, оставляя без взысканий даже серьезные проступки своих подчиненных. Поэтому только новички робели перед Селиванычем и обижались на него, но тоже вскоре привыкали и, уже выслушав очередную нотацию, посмеиваясь, говорили:
— Выдал мне старик порцию, будем ждать следующую.
Душевнее всех относилась к Селиванычу Вера, хоть и доставалось ей больше всех и за всех.
Но в этот день Вера не выдержала. Еще до начала работы Селиваныч, сопя и сердито шевеля лохматыми бровями, упрекнул ее за то, что она вчера не нарядила шоферов в дальние поездки, хотя всего несколько дней назад категорически запретил ей подписывать путевки для выезда из города.
Вера по обыкновению промолчала, заполнила путевые листы и подала ему на подпись. Он, все еще продолжая ворчать, схватил старенькую ученическую ручку, с маху сунул перо в чернильницу и, не рассчитав, посадил на путевке огромную кляксу.
— Кто столько чернил набухал? — капризно пробормотал он, кося выцветшими глазами в сторону Веры. — Черт-те что творится: то дно сухое, то через край льется. Никогда по-людски не сделают.
Вера опять промолчала, заново переписала путевку и ушла в мастерскую. Ремонтники, спеша закончить сборку трофейной трехтонки, вторые сутки работали без отдыха. Когда Вера подошла к сиявшей свежей краской машине, они уже опробовали мотор, испытывая его то на больших, то на малых оборотах. Все механизмы работали нормально, и Вера разрешила пустить машину на обкатку. Это была уже сорок первая машина, поставленная на ноги, как говорил сам Селиваныч, духом и упорством ремонтников.
— Все, Иван Селиваныч, поехала наша сорок первая, — радостно встретила Вера грузно шагавшего по гаражу Селиваныча. — Завтра можно в рейс отправлять.
Старик буркнул что-то неопределенное и пошел к толпившимся около диспетчера шоферам.
— Митинг, что ли, какой? — издали прокричал он. — Или опять перекур до одурения? А ну, по местам!
Шофера, посмеиваясь, послушно разошлись. Машины одна за другой выкатывались на улицу, и вскоре гараж опустел. Только грузовик Анны Козыревой стоял в дальнем углу, сиротливо похильнувшись на сломанной рессоре. Ни новых, ни старых рессор в запасе не было, и Селиваныч вчера обещал сам поехать к своему знакомому на автобазу электрозавода и раздобыть пластин для переборки рессоры.
— Эта почему стоит? — подойдя к Вере, кивнул Селиваныч в сторону Анниной машины.
— Рессора вчера…
— Что рессора, что вчера? — перебил Веру Селиваныч. — Работы черт-те что, а машина стоит.
— Иван Селиваныч… — пыталась объяснить Вера.
— Я шестой десяток Иван Селиваныч, — входя в привычное раздражение, рьяно выкрикнул старик. — Бездельники, лежебоки! Только языком трепать, а чуть до дела, так Иван Селиваныч.
Вера молчала, зная, что убеждать Селиваныча в такой момент совершенно бесполезно. Но в неспокойной душе ее, неудержимо нарастая, поднималась обида. Она почти не слушала Селиваныча, думая, что сейчас делает Петро. Выбежав из дома, она несколько раз хотела было вернуться, но какое-то непонятное упрямство властно гнало ее в гараж, и теперь она жалела, что не вернулась, не успокоила мужа, оставив в таком состоянии одного на целый день.
— Что раскрылетилась?! — уже на весь гараж кричал Селиваныч. — Кто механик: ты или я? Ремонтировать надо…
— Иван Селиванович, — с трудом сдерживая негодование, прошептала Вера.
— Вот, вот! Языком трепать, — язвительно выкрикивал старик, — это вы все мастера. Черт-те что творится!
Вера чувствовала, как нестерпимым жаром полыхало все лицо, как нервно задрожали губы и на глаза набежали слезы. Она с ненавистью взглянула на Селиваныча, шагнула было к нему, но тут же всхлипнула и, совершенно не помня, что делает, побежала в конторку.
— Как вам не стыдно, — подскочила к Селиванычу Анна, — пожилой человек, а такое вытворяет. Она всю душу в работу вкладывает, а вы орете на нее. Вы же сами вчера обещали поехать на электрозавод.
— Что сам? Какой электрозавод? — растерянно моргая опухшими веками, пробормотал Селиваныч.
— На автобазу, к дружку своему, за рессорой, — спокойно разъяснила Анна и пренебрежительно махнула рукой. — До чего же вы невыносимый стали. Не будь вы таких лет, я бы вам сказанула…
Она с ног до головы презрительно осмотрела мгновенно притихшего Селиваныча, с негодованием отвернулась от него и побежала вслед за Верой.
* * *Из сбивчивого, отрывочного рассказа Веры Анна скорее душой почувствовала, чем поняла, что плакала Вера не только из-за обиды на Селиваныча. Она просто, — по чисто женской логике определила Анна, — в семейной жизни дошла до такого состояния, что для вспышки отчаяния было достаточно одной, даже совсем случайной искорки. Этой искоркой и была беспричинная ругань Селиваныча.
Успокаивая Веру, Анна исподволь расспрашивала ее о муже, вспоминала, что раньше говорила она о нем, что рассказывали другие, и из всего этого сделала заключение: Вера любила мужа и муж любил ее, но в их отношениях что-то произошло непонятное, от чего она очень страдала. Анна поняла также, что повинна в этом была не Вера, а ее муж. Она посоветовала Вере поговорить с Петром откровенно, но Вера, давясь рыданиями, растерянно шептала: