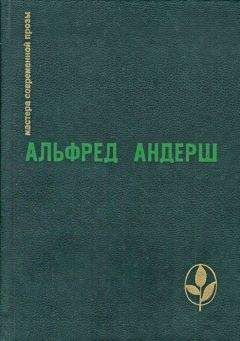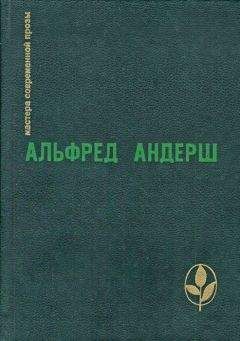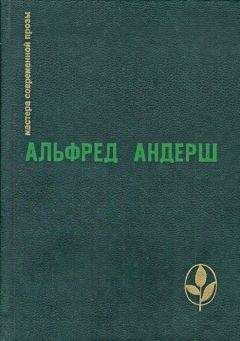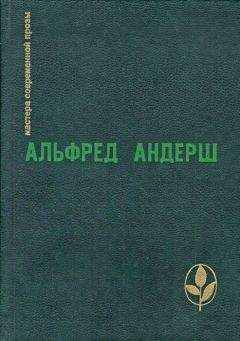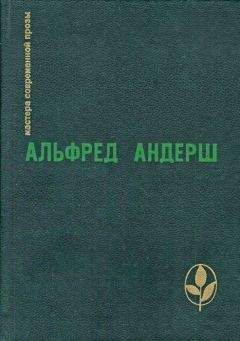Альфред Андерш - Винтерспельт
Динклаге сам развеял все ее сомнения, связанные с использованием Шефольда.
— Самое лучшее во всем этом, — сказал он, — что Хайншток связан с человеком, который является доверенным лицом американцев. Боюсь, что я не смог бы удовлетвориться посредничеством одного Хайнштока.
Она пристально посмотрела на него. Хотя сам Динклаге в этот момент глядел в окно на пустую деревенскую улицу, он, очевидно, почувствовал ее взгляд, ибо стал объяснять ей, что имел в виду.
— Конечно, я доверяю Хайнштоку, — сказал он. — Но мне пришлось бы, разумеется, потребовать от него установления прямых контактов. Этого я требую и сейчас.
Он отвернулся от окна, посмотрел на Кэте.
— План должен быть изменен в одной своей детали, — сказал он. — Последнее сообщение должно прийти через линию фронта.
Она не поняла или, во всяком случае, подумала, что пока имеет право не понять его.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она.
Несколько секунд она с нетерпением ждала ответа.
— Я ставлю на карту все. — Он начал перечислять, делая паузы после каждого слова: — Себя самого. Свой батальон.- («Впервые он назвал его своим», — подумала Кэте.) — Даже тебя, Кэте! — Это прозвучало так, словно он разговаривал с самим собой. — И потому я вынужден требовать, чтобы и американцы что-то поставили на карту, — продолжал он. — Немногое. Только то, что своего курьера, который принесет мне их окончательное решение, они отправят ко мне через линию фронта.
Теперь настала ее очередь выглянуть в окно. В этот субботний послеполуденный час деревенская улица, освещенная бесконечным, лишь слегка приглушенным дымкой светом октябрьского солнца, словно воплощала законченную картину безжизненности, принесенной сюда майором Динклаге с его системой ведения войны. Дом Телена напротив, свинцово-белый, лежал, словно окопавшись, отгородившись от мира послеобеденным сном.
— Так не пойдет, — сказала она решительно. — Это слишком опасно. Ты не можешь требовать такого от Шефольда.
— Я позабочусь о том, чтобы с ним ничего не случилось, — сказал Динклаге тоном офицера, готового принять решительные меры.
Она попыталась сделать простое, как ей казалось, и разумное предложение.
— Ну, хорошо, — сказала она, — мы можем устроить так, что он придет к тебе своим обычным путем. В таком случае он отправится от каменоломни по дороге в Винтерспельт. Или ты бы встретился с ним у Хайнштока… Это можно организовать.
— Ты не понимаешь, Кэте, — сказал Динклаге. — Его приход через линию фронта будет для меня единственным доказательством того, что американцы относятся ко всей этой истории всерьез.
Охваченная внезапным чувством, что все ее усилия бесполезны, она не стала предлагать ему другие решения. Дело не просто в том, что он вбил себе в голову эту мысль, от которой, как бы он ни упрямился, она в конце концов может его отговорить. Условие, поставленное им, было выражением определенных убеждений, определенного образа жизни и мышления, в котором доводы разума не находили опоры, скользили, как руки по голой стене.
— К вопросу о структуре, — сказала она Хайнштоку вечером того же дня (все это происходило 7 октября, в прошлую субботу), стоя в темноте у двери Телена. — Структура-нечто, не подлежащее изменению.
— Да какое там, — сказал Хайншток. — Это вроде той истории с рыболовами, когда ему больше всего хотелось обратиться к американцам по радио, чтобы они забрали своих людей с берега. Этот господин все еще воображает, будто среди офицеров существует некий кодекс чести.
Кодекс чести или что-то другое — во всяком случае, к концу своего разговора с Динклаге она была подавлена и растеряна. Она подумала, не отказаться ли от этого плана, не объявить ли Динклаге, что при таких обстоятельствах его план неосуществим.
Она содрогнулась при мысли о Шефольде, о тех последствиях, которые это могло иметь для него; и все потому, что она, Кэте, вмешалась в авантюру, которая, не будь ее, осталась бы просто игрой ума. Полная страха, дурных предчувствий, она смотрела на Динклаге, заговорившего о чем-то другом, потому что кто-то вошел в канцелярию. Но она так и не сумела заставить себя настроиться на эту новую тему, не слушала, сидела молча, так что Динклаге пришлось встать и закрыть дверь. Когда он положил руку ей на плечо, она словно застыла; вполголоса она сообщила о пожелании Хайнштока, чтобы в ближайшие дни в лесистую долину восточнее Хеммереса не посылались патрули; она заметила, что он помедлил, прежде чем дал согласие: по-видимому, ему было не так-то легко отогнать от себя мысль о том, что на его участке фронта есть пробелы в обороне.
Несколькими часами позже она спросила Хайнштока:
— Не стоит ли нам отменить все это дело?
Он был перед этим у Вайнанди, купил продукты и газеты, она нашла его в большой комнате старого Телена беседующим с хозяином. Потом она вышла вместе с ним во двор. В темноте военной ночи, в которой спряталась деревня, — хоть глаз выколи - она передала ему разговор с Динклаге. Полугородской коттедж на другой стороне улицы, командный пункт батальона, был почти невидим — только серые контуры.
Хайншток сразу понял, что в этот миг и, по-видимому, в последний раз он держит в своих руках судьбу плана Динклаге. Если бы он сейчас ответил на ее вопрос решительным «да», то с этой ужасной, на его взгляд, идеей — сдать американцам немецкий батальон — было бы покончено. Но он не сказал: «Да» или: «Правильно! Покончим с этим, прежде чем мы за это взялись!», а сказал лишь:
— Слишком поздно. Я уже говорил с Шефольдом.
Логических оснований для такой реакции Хайнштока нет. Он сам признает слабость, даже ничтожность приведенного им довода, поскольку, когда Кэте возражает, что сейчас еще вполне возможно объяснить Шефольду, что акция не может состояться и по какой причине, он говорит:
— Конечно, я мог бы позвать Шефольда и дать отбой.
По поводу того, что он упорно не желает этого делать, о чем говорит условная форма приведенной фразы и слово «конечно», могут быть высказаны следующие предположения:
1. Возможно, что за время, прошедшее с сегодняшнего утра, когда Кэте передала ему новость, он изменил свое мнение о плане Динклаге, понял, что, независимо от того, удастся операция или нет, речь идет о событии, имеющем в военной истории чрезвычайное значение.
2. Он действительно считает, что делу уже дан ход. Если Динклаге поговорил с Кэте, Кэте с ним, Хайнштоком, он с Шефольдом, Шефольд с этим американским офицером в Маспельте, то это значит, что события уже приняли такой оборот, что повернуть их вспять невозможно. Является это выражением тривиальной логики типа «взялся за гуж, не говори, что не дюж» или чем-то гораздо большим, остатком веры в неотвратимое у этого приверженца абсолютного просвещения, — кто знает?
3. Он увидел — не в самом плане, а в его осуществлении — результат любовной связи между Динклаге и Кэте и почувствовал, что результат оказался слишком весомым для этой связи и что ему достаточно поддержать одно, чтобы разрушить другое. Неудовольствие, даже страх Кэте, вызванный условием, поставленным Динклаге и касавшимся Шефольда, были для него первым знаком ее сомнений, той критики, которой она подвергла Динклаге. Все это, конечно, он ощущал весьма смутно, не очень отдавая себе в этом отчет. Однако нельзя упускать из виду, что и при таком характере, как его, ревность может привести к неожиданным действиям.
Но он не назвал ни одной из перечисленных здесь причин своего отказа «дать отбой», а ограничился технической стороной дела, сказав Кэте:
— Знаешь, если Динклаге гарантирует Шефольду безопасность при переходе через линию фронта, то для Шефольда это менее рискованно, чем все остальное.
Сознавал ли он, что тем самым принимает тот офицерский кодекс чести, который только что отрицал?
С помощью этого аргумента ему удавалось также поддерживать в Шефольде нужное настроение, хотя это было и не так просто.
Когда на следующее утро, в воскресенье 8 октября, Шефольд появился снова, настроение его заметно ухудшилось.
— Кимброу вел себя странно, — сообщил он. — Он меня выслушал, задал вопросы, но в ответ не сказал ничего, кроме того, что поговорит с командиром полка. Он добавил, что не представляет
себе, чтобы там пошли на это предложение.
— Ну, а я вам что говорил, — сказал Хайншток, но умолчал, что такое решение считал самым лучшим. Если бы американцы отказались играть в эту игру, Динклаге мог бы спрятать свой бессмысленный индивидуалистический план в ящик, а Кэте, Шефольд и он, Хайншток, спокойно дождались бы конца войны.
— Во-первых, сам Кимброу не обнаружил ни малейшего восторга, — сказал Шефольд. — Вы мне можете это объяснить?
— Интернационал офицеров — вот как это можно назвать, — сказал Хайншток. — Они не любят, когда кто-то из них нарушает общий порядок.