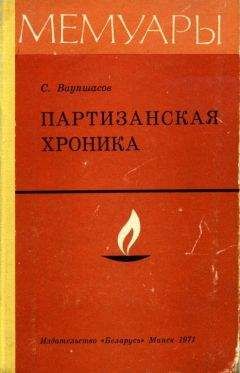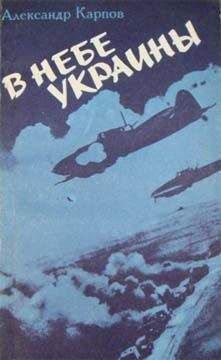Тимофей Гнедаш - Воля к жизни
Раскапываю снег, рву мох, жесткий, промерзший.
Он разнообразен здесь в волынских лесах — есть длинный, пушистый, с мелкими листьями, есть стебельчатый, с грубым листом, стелющийся по земле. Несу с собой образцы всех видов, подсушиваю их около печки. Если высушить мох, он ломается, рассыпается в порошок. А если подсушивать его только наполовину?
И вот Гречка, Георгий Иванович, Зелик Абрамович ходят по лесам и болотам, собирают мох. Мы подсушиваем его на полках вокруг печки. Сестры шьют квадратные мешочки из марли. Перебирают мох, отбрасывают корни, закладывают мох в мешочки и зашивают их наглухо. Получаются небольшие подушечки. Стерилизуем их в автоклаве, накладываем для пробы двум раненым.
На другой день, едва сдерживая волнение, снимаем повязки. Повязки промокли! Выделения из ран впитались в подушечки из мха. Так в лесу был найден перевязочный материал. Трудно передать сейчас нашу общую радость!
Нерадивый «профессор»
Конец ноября. Зима все никак не может установиться. Снег то выпадет, покроет землю толстым слоем, то опять растает. Пронизывающий ветер. В землянках приходится вычерпывать воду.
Федоров вызывает меня:
— Нужно принять партию раненых из другого соединения. Как? Сумеете?
Я задумываюсь. Если потесниться, человекам пяти — шести можно найти место. Но сестры предельно загружены. Целый день перевязки, операции, уход за ранеными. А в длинные ноябрьские ночи, при неровном свете сальных свечей надо сушить мох, сортировать его, складывать в квадратные мешочки из марли, стерилизовать пакетики в автоклаве. Оболочки для этих пакетов мы делали сначала из старых марлевых бинтов, сестры стирали, резали, сшивали бинты. Потом не осталось старых бинтов, стали выбрасывать мох из использованных пакетов, а марлевые наволочки стирать вторично, стерилизовать и наполнять свежим мхом. Нудная, кропотливая работа, отнимающая уйму времени.
Аня, Валя, Лида снабжают перевязочным материалом из мха не только наш госпиталь, но и соседние партизанские соединения Логвинова, Бринского. Если добавить новых раненых в наш госпиталь, сестрам будет крайне трудно. Впрочем, если человека три — четыре…
— Сколько раненых надо принять?
— Человек сто, — говорит Федоров. И видя, как меня качнула и заставила побледнеть эта новость, объявляет:
— Поймите, ничего иного придумать нельзя. Соседние отряды получили задание из Москвы двинуться за Буг. Десять дней назад они выдержали тяжелый бой с немцами. У них сейчас скопилось много раненых. Брать их с собой в рейд — невозможно. Это значило бы замедлить движение, попасть в руки врага. Вызвать самолеты, чтобы эвакуировать раненых на Большую землю, тоже невозможно. Нет посадочных площадок. Что же остается?
— Где возьмем землянки, Алексей Федорович?
— Отберем по соседству с вами у артиллеристов и у кавалерийского эскадрона. Пусть потеснятся.
— Когда прибудут раненые?
— Завтра.
Сутки напряженной, бессонной работы. Очистка, переоборудование землянок артиллеристов и кавалеристов. Заготовка веток и сена для постелей. Сбор и обработка мха.
На другой день к вечеру странный, зловещий шум возникает далеко в лесу. Как будто кричат раздавленные или горящие люди. Да, это стонут люди! Стоны и крики слышнее, слышнее. Появляется длинный обоз фурманок и арб, запряженных тощими конями и волами. В каждой повозке по двое раненых.
Они лежат открытые, головами в разные стороны, снег падает на них, пронизывает ветер. Женщина с усталым лицом сопровождает обоз.
— Медсестра Коваленко, — называет она себя.
Раненые стонут, кричат, хотя обоз уже остановился.
Страдания людей очень велики. Наши санитары подходят с носилками. Хотим тут же сортировать раненых. Спрашиваю у Коваленко, какие у кого ранения. Она не помнит, путается.
Начинаем осмотр раненых. Не только я и Кривцов — сестры наши приходят в ужас.
Повязки наложены безобразно. Марля кое-как намотана. Сломанные конечности привязаны к каким-то коротким палочкам и дощечкам. Эти палочки и дощечки не укрепляют на месте обломки рук и ног, а, наоборот, тянут их в стороны, выворачивают, дергают при каждом толчке воза и удесятеряют боли искалеченных людей.
— Кто оперировал раненых? Кто их готовил к отправке?
— Наш профессор.
— Какой профессор?
— Профессор Старкевич.
— Профессор? У вас? Это работа профессора?
«Не может быть! Коваленко что-то путает», — думаю я.
Раненые волнуются, спрашивают меня:
— А где аэродром?
— Какой аэродром?
— Нас должны отправить самолетами в Москву.
— Кто вам сказал?
— Профессор.
Опять профессор!
Спрашиваю у Коваленко:
— Старкевич в самом деле говорил, что отправляет их в Москву?
— Да, люди волновались. Он хотел их успокоить.
Что за чушь, что за бред! Зачем было обманывать раненых? Но как бы там ни было, их надо сейчас же заново обрабатывать. Они в таком состоянии, будто только что поступили с поля боя.
Топим баню, греем как можно больше воды. Каждого раненого сестры моют на специальном столе. Снимаем грязные бинты, накладываем свои повязки, спешно делаем шины, готовим чай, топим землянки, на чистые постели кладем раненых, кормим их, впрыскиваем морфий, пантопон.
Некоторые упорно не хотят покидать возов:
— Нас направили на аэродром, в Москву, и мы не будем оставаться здесь!
Но когда после бани попадают на мягкие постели, в тепло, самые неугомонные затихают и мгновенно засыпают.
Всю ночь и все утро идет приемка и первичная обработка раненых. Свентицкого нет — он в одном из отрядов. Кривцов, сам еще не оправившийся после ранений, под утро изнемогает, и я заставляю его лечь спать.
Днем всех раненых пропускаем через операционную. Большая часть людей в тяжелом состоянии. Такое впечатление, будто за двенадцать суток, прошедших со дня боя, раны ни разу не обрабатывались. Вынимаю пулю из голеностопного сустава, делаю редрессации бедра, разрезы гнойных затеков, удаляю осколки металла и костей.
Во время одной из операций приходит Коваленко.
— Я уезжаю обратно. Что передать профессору?
— Передайте, что я очень прошу его пожаловать по чрезвычайно важному делу. Скажите ему, что без его консультации я обойтись здесь не могу.
На следующий день появляется профессор. Небритый, заросший черными, жесткими волосами, с оттопыренной нижней губой, со следами былого щегольства в одежде. В выражении его лица, в каждом движении сквозит: «Ну, что там у вас еще? Ох, и надоели вы мне все!..»
— Профессор Старкевич.
— Доктор Гнедаш.
— Очень приятно. Вы хотели со мной… э… консультироваться?
— Да, я хотел вам задать несколько вопросов.
— Як вашим услугам.
Против своей воли чувствую смущение. Профессор! С юности я привык глубоко уважать это звание. Профессора Киевского медицинского института, где я учился, даже из такого сухого предмета, как остеология, делали поэму. Мы слушали их лекции затаив дыхание.
— Мне кажется, мы где-то встречались? — в замешательстве говорю я.
— М… вполне возможно. Вы где учились? Где практиковали?
— Учился в Киеве. Работал в Прилуках, в Шостке.
— Нн-не бывал. Я учился в Вене, практиковал во Львове, в Варшаве.
Ага, еще один представитель «культурного Запада».
«Я знаю, что вы дураки и применения мне никакого не найдете в этом диком лесу, но спрашивайте, раз уж я очутился с вами!..» — говорит его брезгливо-величественная манера держать себя, его профиль утомленного поклонением вельможи от науки.
Вместе с Федоровым и Дружининым направляемся к раненым.
— Скажите, пожалуйста, почему у вас в таком плохом состоянии были раненые? — спрашиваю я профессора.
— Видите ли, э-э-э… у нас два врача, и они оба больны.
— Кто же обрабатывал и отправлял раненых?
— В основном я. Но в тех примитивных условиях, в каких мы находимся здесь…
Он говорит это внешне спокойно, однако я чувствую, как он ощетинился. Обходим раненых, привезенных вчера. Один из них говорит профессору:
— Вот пулю из меня вынули вчера.
— А у меня осколок был в бедре.
— Конечно, в обработке могли быть м… м… м… от дельные дефекты. При той спешке… Когда одновременно поступает сто человек, — мямлит профессор и смотрит в сторону.
Даже после отъезда профессора долго не могу успокоиться Любой наш советский врач, самый молодой, не позволил бы себе работать так неряшливо, так небрежно, как этот почтенный специалист. Миша Кривцов, начинающий советский хирург, исправлял вчера за операционным столом многочисленные погрешности профессора.
«Как же так! Чего стоит ученый, если он пренебрегает «черной работой», позорно теряется и складывает руки, встретив трудности?..»