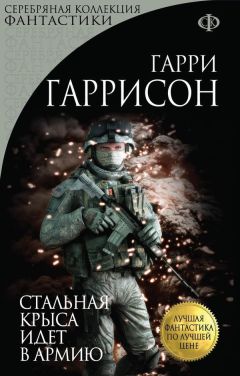Марк Гроссман - Засада. Двойное дно
— Ага, нашего полку прибыло.
— Тихон Уварин, — представил его Суходол. — Святый та божый, на черта похожый.
— Скушно врешь, — сказал Уварин, зевая. — Нету у тебя, старик, никакой игры воображения.
Еще раз зевнув, казак улегся на нары, подтянул длинные ноги почти к подбородку и захрапел.
Тихон Уварин, как потом узнал Гриша, не верил ни в бога, ни в черта, ни в Советскую, ни в любую другую власть. Он с легкой душой мог записаться в анархисты, и в эсеры, и в кадеты, лишь бы ему дали возможность пображничать, поволочиться за бабами — и притом ни за что не отвечать.
У Тихона была удивительная, нелепая внешность. Он был рыжий, как огонь, толстобровый и безгубый; к тому же имел нос башмаком. По причине крайней рыжести Уварин не носил ни бороды, ни усов и грозился, что в самое короткое время настрижет из бородатых большевиков столько волоса, сколько его потребуется на матрас.
Тихон был болтун, и никто ему не верил. Он с величайшей жестокостью рубил невооруженных продработников. с удовольствием очищал хлебные склады, но с коммунистами, у которых было оружие, предпочитал не иметь, дела.
Шундеев, когда бывал в хорошем настроении, говорил Уварину:
— У нас голубая армия, Тихон. Зачем нам рыжие?
— Хоть я и рыжий, а все ж таки — человек темного рода, — смеялся Уварин. — Значит — ваш.
Суходол, убедившись, что Тихон и впрямь заснул, кивнул новичку на грязные нары:
— Треба лягаты, хлопець.
Зимних блаженно вытянулся на лежанке. У него было странное состояние. Тело разбила самогонка, но голова была почти ясная, и он не боялся, что сорвется в своей тяжкой роли.
Забывшись на минуту, вдруг с удивлением почувствовал, что Суходол стаскивает с него лапти и разматывает портянки.
Из дыры в потолке, заделанной осколком мутного оконного стекла, на лицо старика падал скупой свет. Грише показалось, что лицо это совсем не такое злое, как почудилось вначале, а скорее усталое и грустное.
Зимних закрыл глаза и повернулся к стене. Он испытывал маленькую радость, что начало сыграл без явных ошибок, и все-таки душу мутила тревога.
«Как вести себя в налетах? Неужели придется стрелять по своим, ломать и поджигать склады? Нет, он не станет этого делать, как-нибудь извернется, а не станет!
Телефонной связи в уезде почти нет, а и была бы — как сообщить в чека все, что надо?
Петю Ярушникова впутывать в это дело пока рано».
— Тихон, а Тихон! — внезапно позвал спящего Уварина Суходол. — Встань-ка!
— Иди к дьяволу, дед! — не открывая глаз, отозвался Уварин. — Зарублю!
Кряхтя и посапывая сплющенным носом, он перелез через Гришку и, свесив длинные ноги с нар, протянул мечтательно:
— Кваску бы холодного испить... Ииэх... Ну, чего тебе, шишига?
Суходол объяснил, что пойдет искать заместо себя человека в караул, а Тихона просит «пошукаты» казачонку саблю и коня.
— У меня ни складов, ни табунов не имеется, — подмигнул Суходолу рыжий. — И даром я тоже ничего не даю.
— Добре, добре, — остановил его старик. — Будь ласка!
— Ну, черт с тобой, достану, — неожиданно согласился Уварин. — В долг, понял?
Сломившись почти пополам, он выбрался из землянки, и до Гриши донеслась глупая песенка, которую безголосо пел Уварин:
Красный рыжего спросил:
— Как ты бороду красил?
— Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал...
Суходол тоже вышел из подземной клетушки, и Гриша остался один.
Он снова и снова обдумывал наперед каждый свой шаг и снова понимал, что не все впереди будет гладко: уж очень чужой жизнью приходится тут жить.
Вспомнил Ярушникова, его птиц, голубятню, на втором дне которой бережет этот мальчик оружие для борьбы с контрой.
«Я — тоже человек с двойным дном, — внезапно подумал Зимних и хмуро усмехнулся. — У меня тоже есть дно, видимое для глаза, и еще то, которое никогда не должны увидеть бандиты, сметенные сюда бурями революции»...
От этой мысли Грише почему-то стало зябко, но он быстро прогнал неприятное чувство.
«Надо, — сухо приказал он себе. — Мало ли что выпадает коммунисту в судьбе. Не одно прозрачное. Надо — и все».
От размышлений Гришу оторвал Уварин. Он втиснулся в землянку, похлопал Зимних по колену, кинул:
— А ну, выдь со мной, казак. Я тебе суприз сделал.
Гришка намотал портянки, облачился в лапти и, пошатываясь, направился за Увариным.
У землянки, привязанная к дереву, стояла кобылка-недоросток. Мохнатая степная лошадка тихонько помахивала головой, сгоняя слепней, подрагивала округлыми боками, прядала правым, резаным ухом.
— Ты не смотри, что маломерка, — всерьез заметил Уварин. — Бегает кошкой и под седлом не дурит.
— Дядя! — попытался обнять Гришка Уварина. — Дай я тебя, рыжего дьявола, поцелую...
— Но-но! — отстранил его Тихон. — Не шуткуй, пьяная морда!
Впрочем, Уварин тут же забыл про обиду и снял с себя ножны на длинном потемневшем ремне. Гриша только сейчас заметил, что на Тихоне болтались две сабли.
Уварин вытащил из ножен оружие, попробовал пальцем острие, хмыкнул:
— Кочаны рубить — в самый раз. Тупая, как мозоль. Другой нет у меня, парень.
Гришка принял саблю, взвесил ее на руке — добрый пуд! — и с треском воткнул в ножны:
— Ничего, и этим порабатаем, дядя!
Подошедший к ним Суходол внимательно взглянул на казачонка, покачал головой:
— Цей з зубами родывсь!
— Ты чего бормочешь, Тимоша? — спросил Уварин.
— Сотник кличет, — не обратив внимания на вопрос, проворчал Суходол. — Швыдко!
— Обоих, что ли?
— Еге ж.
— Пошли, парень, — потянул Уварин Гришку за рукав. — Видать, дело есть.
И они направились по узкой дорожке к дому.
* * *В штабе «голубой армии» шел военный и политический разговор. Обсуждался ход «боев» и настроение казаков в южных и юго-западных станицах губернии.
Настя убрала со стола еду и самогон и, чисто вытерев клеенку, ушла в боковую комнатушку.
Миробицкий склонился над картой крупного масштаба, исчерченной синим и красным карандашами. За его спиной стояли Шундеев, Евстигней Калугин, Никандр Петров и отец Иоанн.
— Начались дожди, — хмуро говорил сотник. — Скоро холода́. Нам они, положим, не больно страшны, у нас — землянки и дом. В степных же уездах, в горах морозы и недостаток провианта погонят казаков к жилью. А там — власть.
Слово «власть» Миробицкий иронически растянул и непроизвольно потер поросшую щетиной шею. Может статься, вспомнил камеру губернской чека и лагерь, из которого бежал.
— Уже теперь, — продолжал сотник, — из гор по границе с Башкирией выходят наши люди. Часть отрядов дислоцируется к югу и юго-западу от Верхнеуральска. Другая часть небольшими группами в двадцать-тридцать человек распространяется на северо-восток. Людьми учителя Луконина и подхорунжего Выдрина заняты Карагайская, Ахуново и Уйская. Однако проку в том мало, думаю. Красные посылают в станицу крупные силы, местные голодранцы не поддерживают наши отряды, и людям снова приходится уходить в леса.
— И это все? — спросил Шундеев.
— Нет, отчего же? — сухо отозвался Миробицкий. — Люди делают свое дело. Коммунистов и беспартийную власть — в распыл. В Уйской пристрелили председателя исполкома, двух начальников милиции — местного и Верхнеуральского, четырех продработников.
Миробицкий взглянул на офицеров, опустил брови на глаза:
— И нам не срок бражничать. Делу время, потехе час.
— Истинно. Вера без дел мертва есть, — поддержал сотника отец Иоанн. Маленький, тощенький, с тощенькой же бороденкой, похожей на изработавшийся веничек, он был удивительно не к месту здесь, в обществе грубых, провонявших по́том и порохом казаков.
Отец Иоанн знал Демушку Миробицкого еще ребенком — и уже в те годы отметил в характере мальчишки силу воли и упрямство. Отец будущего сотника вел крупную торговлю хлебом с Туркестаном и не пожалел денег для того, чтобы дать сыну хорошее образование, в том числе и воинское.
После разгрома Колчака отец Иоанн отыскал Миробицкого и выразил желание божьим словом сопутствовать правому делу.
— Стрелять умеешь? — спросил сотник, когда этот худенький, миролюбивый и даже трусоватый человечек появился в Шеломенцевой заимке.
— Увольте меня от этого, — попросил отец Иоанн. — И сану не приличествует, и телом я немощен.
— Тогда вертайся домой, ваше преподобие, — вспылил сотник. — Мне божье слово ныне без сабли не требуется.
Отец Иоанн испуганно задергал ресницами, склонил патлатую, изъеденную сединой голову и вздохнул.
Миробицкому стало жалко старика.
— Я — не Ермак, отец Иоанн, — сказал он уже мягче, — и ныне — двадцатый век. Всякие руки, пускай хилые, могут взять наган либо винтовку. Ну?