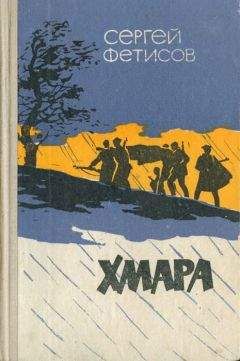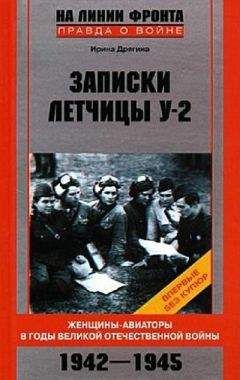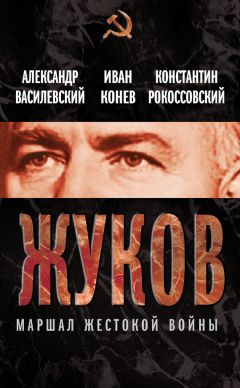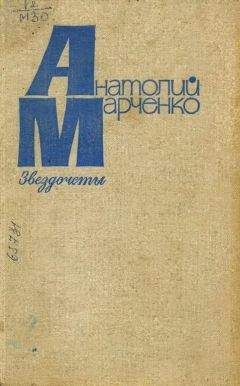Анатолий Трофимов - Угловая палата
Да, видно, Машеньку, радость эту, судьба не для него предназначила. Вон как разволновалась, засветилась доверчиво. А всего и делов-то — Агафон Смыслов глаза открыл, улыбнулся ей издали.
Смыслов посмотрел не только на сестрицу, посмотрел и на Борю. Долго смотрел, пытливо, потом поманил пальцем. Боря перебрался на табуретку возле кровати.
— Чего такой кислый? Ступай гулять. Посмотри, что в парке делается.
Боря покосился на окно. Дождевая туча сдвинулась, открыла небо. Влажные, облитые горячим солнцем резные листья каштанов, подрагивая, искрились светло-соломенными, пурпурными, золотистыми переливами. Неправдоподобной показалась Боре красота сентябрьского увядания, никогда не приглядывался, не замечал эту красоту в природе, думал, что цвета побежалости могут возникать только на спиралях стальной стружки, снимаемой резцом его старенького станка.
Смыслов дотронулся до Бори:
— Ну что молчишь, что с тобой?
Басаргин протер глаза рукавом халата, тоскливо вздохнул:
— Да так. В роту бы скорей, к ребятам.
Проникая во что-то смутное, еще неугаданное, но явно неладное, Смыслов сдвинулся к стенке, показал на край постели, попросил мягко:
— Сядь сюда. Расскажи.
Не раз замечал Смыслов, как накатывает на этого в общем-то, не склонного к хандре парня безмолвное душевное томление, но как-то не к месту все было с ним заговорить.
— Может, п-письмо к-какое, а? В семье что-нибудь?
— Нет у меня семьи.
— К-как это нет? — свел брови Смыслов.
— Детдомовский я.
— Должны же быть друзья, т-товарищи…
Не было у Бори в детдоме товарищей, не успевал заводить уж очень часто переталкивали из одного детдома в другой, а то и сам убегал Вот в ремесленном, там — да И пишут, наверно Мастер Гаврила Егорович, Санька-грек, Витька-гуля… Пишут, поди. Только на ту полевую почту, Борьке Найденову…
Рассказать? А если Смыслов, как тот отделенный, которого в блиндаже убило? Боря с усилием посмотрел в глаза Смыслова. Коричневые, чистые, они с тревожным участием следили за Борей, и его стесненный дух стал будто расковываться. Нет, этот не заорет, не скривится брезгливо. Только что из того? Не бог, не святой дух, чуда не сотворит… А-а, хоть выговориться, вдруг да полегчает.
* * *Парней 1927 года рождения, малость подросших к тому времени, начали призывать зимой сорок четвертого. Призыв для Бори был пределом мечтаний: на фронт, на фронт! Но не так уж беден был тогда фронт, не торопил парня в свои смертные объятия. Учили без спешки, основательно. Целых четыре месяца. Учили поворотам налево-направо-кругом, колоть коротким и длинным щиты из ивовых прутьев, ползать по-пластунски, окапываться, разбирать и собирать винтовку образца 1891 дробь 1930 года и новейший ППС, а под конец — стрелять боевыми патронами. Потом сколотили команду, отправили на фронт. На фронт не все попали. Борю назначили в какую-то роту, охранявшую склады, пакгаузы и вагоны на путях прифронтового железнодорожного узла. Рота была укомплектована служивыми очень даже почтенного возраста и несколькими салажатами вроде Бори Найденова. Караульную службу несли исправно, но порой с такой откровенной примесью гражданской нестроевщины, что рота эта казалась командой сторожей из шарашкиной конторы. Приходил солдат на указанный ему пост в указанное время — когда с разводящим, когда без него, — сменяемый отдавал противогаз, подсумок, винтовку и радостно объявлял: «Пост сдал!», а пришедший на смену без всякой радости отвечал: «Пост принял». Сдавший уходил куда вздумается или заваливался на нары припухнуть до нового заступления на охраняемый объект.
Однажды, освободившись таким образом от винтовки и противогаза, Боря до крупинки выскреб оставленное ему в котелке, тоскливо посмотрел на чистое донышко: поел, называется, даже отрыгнуть нечем. С ощущением еще большей охоты порубать отправился к вокзалу, где местные тетки в обмен на немудреные солдатские шмутки бойко сбывали тоже не очень мудреную стряпню. За пазухой у Бори притулились две портянки, и он рассчитывал получить за них как минимум штук пять картофельных лепешек, помазанных подсолнечным маслом.
Когда торг состоялся, Боря пошагал в дальний конец изрытого, загубленного снарядами сквера, чтобы приглушить неотвязчивую тоску всегда несытого брюха. Тут-то и остановил его надтреснутый командирский голос:
— Товарищ боец, ко мне!
Боря оцепенел. В пяти шагах стоял лейтенант с уставшим, измученным лицом, в фуражке с черным бархатным околышем, в тыловых, синего сукна бриджах и диагоналевой гимнастерке, упряжно перехваченной портупеей и ремнем полевой сумки.
— Вы что, оглохли? Кому сказано? — суровел лейтенант, но ждать, когда солдат придет в себя и задаст стрекача, не стал, подошел сам.
— Хо-рош солдат… Ничего не скажешь — хо-о-ро-ош… — И как плеткой: — Крадем?! Государственное имущество крадем?!
Ну, это уж слишком. Боря взвился:
— Я не воровал! Это мои портянки!
Лейтенанту явно не хотелось идти на обострение, заговорил тихо, рассудительно, правда, с прежней колкостью:
— Портянки, допустим, твои. А ты чей? Кому присягу давал? — Предоставил виновнику время уяснить сказанное, подвел черту: — Что же выходит? А выходит — кра-аде-ешь…
Боря сопел, косился на развалины вокзала и соображал — нельзя ли на самом деле рвануть от этого усталого худого щеголя в парчовых погонах? Но психологическая атака, как казалось лейтенанту, была проведена с блеском, и он сменил гнев на милость.
— На жратву менял? Голодный? — он сподручнее передвинул полевую сумку, откинул закрывашку и извлек квадратную баночку консервированной американской колбасы и сухарь в поперечину булки. — Сядем-ка на полянку, перекусим, у меня тоже живот к спине прилип, пока за такими, как ты, бегал. От эшелона отстал?
— Ни от кого я не отставал. Я тут, в караульной роте.
Лейтенант был дошлый психолог, знал болевые центры желторотых солдат и бил в них без промаха.
— Молодой гриб, а червивый. Знаешь, где кантоваться. Не хочется, значит, под пули? Драгоценную жизнь бережешь? Да ты не дуйся, лопай давай. Я так, поглядеть, какой ты, когда сердитый. По твоей физиономии вижу — давно на фронт охота. Да-а, мало хорошего загорать в инвалидной команде. Вернешься домой после войны, а там… Где да как воевал, покажи награды. Девчонки нынче ого какие пошли! Согласны только на медаль, да и то — в крайнем случае.
На гимнастерке лейтенанта висели две медали, и, надо полагать, он на деле проверил, какова их роль в сердечных делах.
Скоро Боря, выловив пальцем из баночки последние студенистые крошки и слизнув их, рассказывал лейтенанту о своей хреновской житухе. Лейтенант свойски хлопнул его по плечу:
— Плюнь, Борька, на эту сторожевую шарагу, поедем со мной! Эшелон с маршевыми ротами сопровождаю, завтра на передовой будем!
— Как так? Я же тут… Сбежал, скажут, дезертировал…
— Вот уж действительно не от ума! Ты что, в тыл? Маме под юбку? В действующую армию, немцев бить! — авторитетно, начальственным голосом воскликнул лейтенант. — Посмотри на себя, вон какой бравый парень! Не медали, как я, — еще орден отхватишь. Мне вот пополнение сдать надо да обратно в запполк, а я тоже думаю остаться. Обрыдло в тылу околачиваться. Дадут роту — и ладно. Хочешь, к себе ординарцем возьму?
— То сторожем, то ординарцем, — оскорбился Боря. — Нет уж, воевать так воевать.
— А я что говорю? — рассудительно продолжал лейтенант. — Ты, Найденов, мужик хоть куда! Тебе и пулемет могу доверить, к «максиму» первым номером, если захочешь, приставлю.
— Вы-то почему в пехоту? Фуражка у вас вон танкистская.
Лейтенант малость смутился, сказал честно:
— Это я так, для форсу бархатную напялил… Ну, надумал?
Боря решительно хлопнул пилоткой по кирзовому голенищу, объявил о готовности идти за лейтенантом в огонь и в воду.
Вскоре они лежали на железнодорожной платформе под крылом разбитого самолета, который почему-то везли в обратную от тыла сторону. Маршевый эшелон лейтенанта был где-то впереди, и его предстояло еще догнать на попутных товарняках. Измученный каторжной работой сопровождающего, борясь с дремотой, лейтенант втолковывал Боре, что на месте назначения принимать пополнение будут представители действующих частей, и ему во время переклички надо отозваться на фамилию Басаргин. Почему? Так это на первое время, чтобы на котловое довольствие, обмундирование там… Потом все утрясется.
— Черт его знает, куда подевался этот Басаргин, — рассуждал лейтенант как бы сам с собой. — Два дня от Орши до Смолевичей мотался, искал задрыгу. Как в воду булькнул. Может, родичи какие поблизости?… Наплевать! Его место займет достойный человек…
Не скоро еще разберется Боря в этом анафемском зигзаге. Невдомек еще было, что он — лишь пылинка на сложных военных дорогах. Кто-то в то лихое время по правде дезертировал, кто-то отставал в попутной свиданке с близкими, кто-то, незадачливый, терял эшелон просто по лопоухости. А в маршевых формированиях — списки, точный учет каждого живого штыка, доставляемого в истерзанные, обескровленные полки и батальоны. Кто, какой командир примет долгожданную свежую силу с нехваткой? Вот и восполняли непредвиденные потери в пути как могли: перехватывали заблудших ротозеев из других маршевых рот, правдами и неправдами высвобождали из комендатур всяких задержанных, а то и поступали так же предательски гнусно, как лейтенант в хромовых сапогах «джимми».