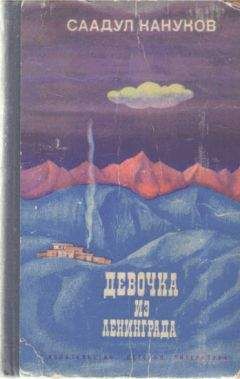Людмила Никольская - Должна остаться живой
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
За спичками. — КартинаХмурым утром случилась у них ужасная неприятность. У мамы из кармана потерялся полный коробок спичек.
В крохотном окошке ещё не пытался заниматься рассвет. Майя в кровати слышала, как Наталья Васильевна нервно металась по углам комнаты в поисках такой необходимой днём и ночью пропажи — в поисках спичек. Мама обзывала себя коровой, ослицей и даже каким-то насекомым.
— Не спишь, Майка? — спросила она, сев на стул возле Майи. — Без спичек — как без рук! Бывало, включишь электричество и ищи в доме любую пропажу, что днём, что ночью. Господи, шишку набила, все пальцы на руках пообстучала!… И левый бок ушибла!
Майя сочувственно прислушивалась в полудрёме.
— Раньше и батареи в домах были горячие день и ночь. Правда? — поддакнула она, открыв глаза и выбираясь из-под груды наваленных одеял. — Сейчас я тебе помогу!
Теперь они искали вдвоём. И вдвоём соображали, где спички могут находиться, а где — совсем не могут. Они то и дело натыкались друг на друга. Правда, натыкалась Майя, мама успевала разминуться. Если мешкала секунду — они сталкивались, и мама ворчала, а Майя виновато ойкала.
Им стало тепло, они даже запыхались. Когда же сели на диван, чтобы передохнуть, у наспех одетой Майи сразу зуб на зуб перестал попадать, словно сама зима заглянула к ним в комнату.
— Как без спичек плохо! Я даже не подозревала об этом, — уныло тянула Майя. — Мама, у тебя украли, а ты ничего не почувствовала.
— Я не бегемот. И они лежали в жакете. Не могли в жакет залезть, не расстегнув пальто. Господи, надо вязать, норма не ждёт. И Толя скоро придёт со Всеобуча, а в комнате темно и холодно. И так еле-еле с нормой справляюсь, а тут ещё и спички потеряла…
— Как быстро на фронте перчатки рвутся, — вздохнула Майя.
— И рвутся тоже. С каждым днём всё больше требуется их, а шерсть толстая и жёсткая. И в то же время пухлая и непрочная. Тепла и крепости в них нет. Бойцы вовсе не виноваты, им стрелять надо, а не веером в перчатках обмахиваться… Господи, им тяжело, нам в городе тяжело. Когда же весь этот ужас кончится?
— И папа с Валей носят такие же перчатки?
— Я всякий раз вяжу, словно для них. Может, моя перчатка им попадётся когда-нибудь. Всякое же случается в жизни.
Майя оживилась после маминых слов, начала быстро одеваться.
— Давай, мама, я в каждую перчатку буду класть по записке. Я тоже помогаю тебе шерсть разматывать. Как бы ты без меня перемотала её в клубки? Правда. Папе или Вале попадутся, а в них записка от нас. Здорово, правда?
— Им только твои записки и отыскивать. Куда же могли спички пропасть? Всё обыскала.
— Отыщутся, когда мы ослепнем от темноты и замёрзнем. Так всегда бывает в жизни, — мрачно поддакнула Майя. — Есть ещё такой закон…
— И в магазине не купишь. На рынок бегать целый день из-за одних спичек. Как выйти из несуразного положения? Мне вязать надо, у меня карточка рабочая, и мне надо выполнять норму. Зря рабочую карточку сейчас не дают… Сходи к Николаевым: я на прошлой неделе одалживала им стакан керосину. Скажи, что нам надо всего три спички. Пустой коробок, чтобы чиркнуть — найду. Скажи, куплю на барахолке…
— Думаешь, даст?
— Конечно.
Приунывшая было Майя повеселела, накинула своё бобриковое пальто с роскошным воротником из «косого» и отправилась к Николаевым. В коридорах было неуютно и темно, но она ловко нашла дверь комнаты Николаевых.
На её стук никто не отозвался. Дверь комнаты чуть приоткрыта. Девочка потянула ручку и вошла. Здесь полутемно и тихо. Неприятно и унизительно что-нибудь просить у соседей, даже в самых безвыходных положениях. И Майя чувствовала неловкость и скованность.
— Тётя Соня, — громким шёпотом позвала Майя. — Вы дома или вас нет? А я к вам по делу. Меня мама послала…
Это был выход. Она не сама пришла просить, а её мама послала. Она только выполняет поручение.
Неловкость сразу прошла.
В глубине большой комнаты заворчал, топко завыл пружинный матрац. Пётр Андреевич! Она сразу узнала голос, он спросил её:
— Это кто пожаловал? Демуазель Маюми?
Это и лучше, что нет Софьи Константиновны. Уж Пётр Андреевич не станет приставать с расспросами и охать, он-то обязательно даст спичек, хотя бы у самого осталась в коробке одна спичка. Майя так обрадовалась этому, что даже пальто чуть не соскочило у неё с плеч.
— Это я. А это вы? К вам можно? Вы один?
— Вошла уже, а спрашиваешь разрешения. Небось, лежишь целыми днями с утюгом в ногах…
— Что вы! Это Толя лежит после ночных дежурств на своём Всеобуче, ног под собой не чувствует от усталости. А мне лежать некогда. Знаете, сколько у меня дел накопилось? Я даже не хожу, а бегаю… И ещё я стала…
Она хотела похвастать, что стала тимуровкой, но вовремя спохватилась и зажала себе ладошкой рот.
— Как ваше здоровье? Как поживаете? А где ваша Софья Константиновна?
— Рад слышать. Мама всё вяжет? Присядь.
— При коптилке очень темно вязать. У мамы такие стали глаза красные… такие красные…
Она не могла подобрать подходящего слова.
— Словно у удава…
Она пожала плечами. Какое неудачное слово, — наверное, мама, услыхав такое сравнение, обиделась бы на неё.
— Нет, как у плотки, — поправилась она. — Шерсть дают пухлую, но жёсткую. В ней нет ни крепости, ни тепла. Мама говорит, что на фронте жутко рвутся перчатки… А норму увеличили… А кто вяжет носки, тем шерсть ещё и с мусором дают. Мусор жёсткий, его надо выдёргивать…
— Да, невесело. А кто такой плотка?
— Какой плотка?
— Ну, ты сказала, что глаза у мамы твоей, как у плотки.
— Я про удава сказала.
— И про плотку. Кто такой плотка?
— Сказала? — обрадовалась Майя. — Я забыла. А плотка — это же плотва, так называется не по-научному.
— Не по-научному? Вот не знал. Благодарю покорно, теперь уж я точно знаю, что плотка — это не по-научному плотва.
Чувствуя в серьёзном голосе Петра Андреевича какой-то подвох, Майя перевела разговор:
— А какие на фронте герои? Те, которые ничего не боятся?
— Как не боятся! Надо. Слышала такое слово?
— Слышала. Мы в комнате мёрзнем, а они — в окопах. Они все там герои, правда?
— У них землянки сделаны. В землянках — печки.
— Но это же зе-е-мля-я-нки-и. Они из зимней мороженой земли.
— Не сладко, конечно, но война вся состоит из теневых сторон.
— Из чего?
— Я только сейчас понял, что от себя, в отличие от бомб и снарядов, нет укрытия и спасения. Жизнь моя — это упущенные возможности. Оглянулся назад, благо теперь уйма времени… Сколько можно сделать было, создать картин, если бы тогда время не растаскивалось безжалостно на разные пустяки… Что стоишь? Проходи…
Натыкаясь на разную, стоящую не на месте мебель, Майя подошла к самой кровати, на которой лежал Пётр Андреевич.
— Вы болеете. И голос у вас печальный и одинокий… Я немного приоткрою штору, а то мне вашего лица не видно совсем. Мне неприятно разговаривать, если я никого не вижу.
— Ого. Заявка на тонкого психолога. Сделай милость, — сказал Пётр Андреевич.
Чёрная матерчатая штора криво и нехотя поползла наверх. Да и то после того, как Майе пришлось немного повисеть на ней и подрыгать для утяжеления ногой. Некрасиво повисеть и некрасиво подрыгать. Как собаке на заборе. Хорошо, что в комнате темно и верёвка оказалась прочной.
— Упрямая ваша штора, как осёл, — недовольно сказала она, запыхавшись и еле справившись с трудным делом.
— Сил довоенных требует. Ещё Игорёк в начале войны сие соорудил. А ты молодец, переупрямила штору.
При голубоватом свете бледного утра она увидела, что сосед с доброй улыбкой её разглядывает. Ей стало неловко, и она начала излишне пристально разглядывать предметы, окружавшие её. В комнате полный беспорядок, даже стул с табуреткой валяются на полу.
— Беспорядок, а лежу… Осуждаешь? И я себя осуждаю, а лежу… Силы исчезают, словно мне не сорок шесть, а все сто… Да ещё с хвостиком… Стул и табуретку разбить не мог. Куда это годится?
— На дрова? — испугалась Майя. — Такой красивый стул!
Рояль, недосягаемый царственный рояль одиноко и грустно стоял, словно чужой в этой комнате. А если его сожгут?
Пётр Андреевич перехватил её встревоженный взгляд, украдкой брошенный на рояль, понял её страх.
— Никогда! Кончится война, и я сам привезу его тебе. Видишь, какие у него отличные колёсики на ногах. За пять минут примчится к тебе… Ты станешь учиться музыке, а по вечерам будешь играть для меня. Я, старый ворчун, буду тебя слушать, как ты будешь играть прелестные ноктюрны Шопена. Станешь старика баловать?
— А Софья Константиновна?
— Слыхала про восстание рабов? Так мы поднимем ещё ужасней.
Она раздумывала над словами Петра Андреевича, с сомнением смотрела на него.